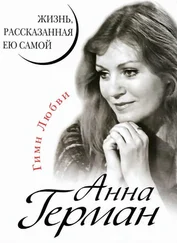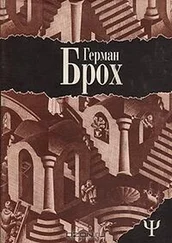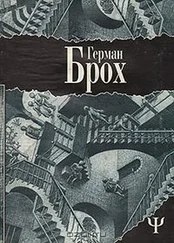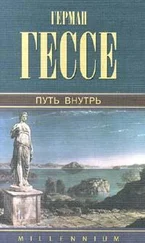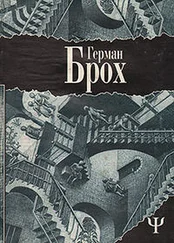Туанет дожидалась ее в холле. И когда бабушка, в черной шубе, высокая и седовласая, показалась на лестнице, та встретила ее смехом — так смеются у себя дома. И фрау Фильсман подумала о том, что и ульмская прабабушка в пору юности, году этак в 1820, могла смеяться именно так. Возможно ли еще какое-то сходство между Туанет и той давно умершей женщиной? Непременно. Иначе, какой смысл в том, что эта жительница Южной Америки оказалась здесь, какая радость ей, фрау Фильсман, сжимать в объятиях маленького Жуана, если он не их породы, если его рождение не приуготовлено ее собственным прошлым? И поскольку иначе быть просто не могло, поскольку она всегда была открыта счастью естественности, в голосе Туанет слышались ей доносимые из глубокой дали протяжные интонации ульмской застольной молитвы.
— Гледис тоже готова, — сказала Туанет.
— Тем лучше, — ответила фрау Фильсман, хотя ей было бы куда приятнее побыть наедине с внучкой. Не потому что она ненавидела свою невестку. Просто та была из другого теста, так же как Фернандес, муж внучки, или зять Вальтер Косхайм. Ее немного позабавила мысль, что и ее собственный супруг принадлежал к другой породе, хотя, казалось бы, к восьмидесяти годам их должна бы окончательно породнить, как сказал бы юрист, сила обычного права. Нет, и он был чем-то случайным и вполне заменимым. Не странно ли, что он оказался ее мужем, что она пятьдесят лет хранила верность именно этому человеку. Правда, во Фридрихе Иоганне всегда было что — то чрезмерное. Гледис же обвинялась в том, что у нее не было детей.
Появилась Гледис. Она и в самом деле была здесь чужой. И этот металлический блеск белокурых волос, и эта прозрачная белизна кожи, напоминающая стерилизованное молоко, давали облик пустоте, желающей именоваться дамой, делали ее женщиной без возраста и вместе с тем молодили — в таком оперении Гледис с ее узким и заостренным лицом выглядела совершенной противоположностью Туанет, обнаружившей некоторую склонность к полноте в свои двадцать четыре года.
— Видит бог, вы кажетесь одногодками, — сказала фрау Фильсман, и слова ее были злы: ведь она не могла i;e знать, что Гледис не любит, когда намекают на се тридцать четыре года.
— Надо спешить, — заторопилась Гледис, — скоро семь. — Во всем, что касалось музыки, она была непреклонна, музыку она считала своей вотчиной, и ее коробило, что на концерт приходится идти со свекровью и племянницей. Собственно говоря, она имела на это право. Если бы весь мир был семейством Фнльсманов, ему бы не понадобился Бетховен. Впрочем, Туанет не делала из этого тайны.
— Да мы придем как раз вовремя, — сказала она, — это и так бог знает сколько тянется.
Гледис ни словом не возразила ей.
Фрау Фильсман не отпускали воспоминания об ульмской прабабушке, они еще больше захватили ее, когда она оказалась в ложе концертного зала. Вокруг было столько людей, такое множество чужих лиц, и куда меньше знакомых, хотя было довольно и тех, кого она могла бы признать своими. Ей казалось, что с вершины своего возраста ей доступен широкий обзор всего многообразия человеческого рода, что ее взгляд простирается не только на живущих и сидящих с ней в одном зале, но и на умерших, а, может быть, даже на рождающихся и грядущих. Все те, кто ее сейчас окружал, составляли какое-то однородное целое, тонувшее в монотонной болтовне, которая еще больше скрепляла эту однородность — все это с высоты семидесяти лет открылось взору фрау Фильсман, а для нее существовал лишь круг людей, у которых она восприняла свою кровь и чью кровь она передала потомкам; она видела перед собой не только поросль семи поколений, но и разветвление крови — она не могла найти точное слово, но мысль работала ясно; это было разветвление крови, соединившее все существующие социальные слои. Тут были мастеровые и полукрестьянские предки, тут находилась и Туанет, молодая крестьянка, не ведающая своего корня, здесь была и неправдоподобно хрупкая, дворянской кости, невестка и сын Герберт… Фрау Фильсман прервала ход мысли, ей стало как-то неловко определять кровь собственного ребенка, и она быстро перешла на себя, расположившуюся в сердцевине всех поколений и социальных слоев, здесь, в этой ложе, истинно живую среди всех живущих, заполонивших все вокруг своей болтовней.
Но вот в одном углу зала раздались аплодисменты, и тут же зааплодировали все: на сцене появился знаменитый, всеми обожаемый дирижер. Он прошел между рядами музыкантов, остановился возле второй скрипки и поклонился залу. Это был маленький, коренастый человек с плоским, слегка негроидным лицом музыканта, но почему-то светловолосый. Ему пришлось не раз поклониться, но вот он решительно повернулся к залу своей чернофрачной спиной и поднял обе руки. Бетховен, Седьмая симфония: гвоздь программы.
Читать дальше
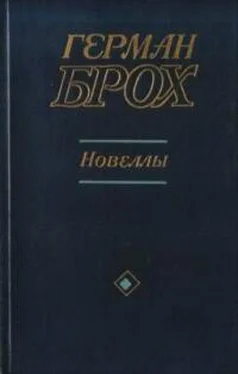
![Леонид Репин - Люди и формулы [Новеллы об ученых]](/books/32535/leonid-repin-lyudi-i-formuly-novelly-ob-uchenyh-thumb.webp)