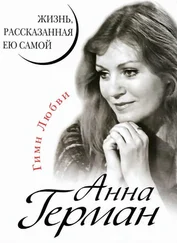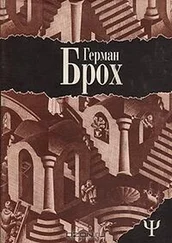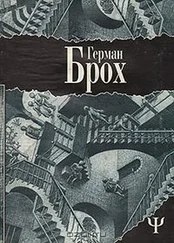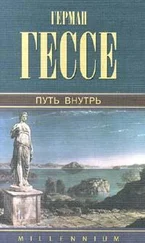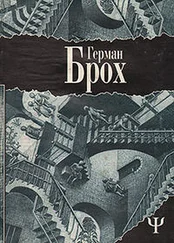Когда она опять пробудилась через час, уже нельзя было отрицать, что утро далеко не раннее. Для человека, который лишь слабыми, едва заметными ему узами связан с тем, что он сам и другие называют жизнью, утреннее вставание всегда тяжкая мука. И у Ханны Вендлинг, которая вновь ощутила неизбежность наступления дня, внезапно разболелась голова. Боль начиналась где-то сзади. Скрестив пальцы, она обхватила голову ладонями, и когда руки ее погрузились в мягкость волос, а тонкие их пряди заструились между пальцами, она на миг позабыла даже о головной боли. Нащупала место, где болело: ноющая боль возникала за ушами и тянулась до завитков на затылке. Это было ей знакомо. Иногда в обществе ей бывало так худо, что все плыло перед глазами. С внезапной решимостью она откинула прочь одеяло, сунула ноги в домашние туфельки на каблуках, немного приподняла жалюзи и с помощью карманного зеркальца попыталась рассмотреть в трюмо изболевшийся затылок. Что там так болит? Определить невозможно. Она поворачивала голову туда и сюда, позвонки явственно проступали под кожей. — красивая все-таки у нее шея! Да и плечи тоже хороши! Она охотно позавтракала бы в постели, но неловко: идет война! Довольно и того, что она залежалась так поздно. Вообще-то, ей полагалось бы самой провожать мальчика в школу. Ежедневно она принимала такое решение. Дважды даже выполнила свое намерение, но потом опять предоставила все служанке. Конечно, мальчику давным-давно пора бы иметь гувернантку — француженку или англичанку. Англичанки лучше — они прекрасные воспитательницы. Когда кончится война, надо будет послать его в Англию. В его возрасте — да, как раз в семь лет — она по-французски болтала лучше, чем по-немецки. Ханна поискала флакон с одеколоном и потерла виски и затылок, потом внимательно стала разглядывать в зеркало свои глаза: они были золотисто — карие, в левом явственно проступала красная жилка. Это от беспокойного сна! Она набросила на плечи кимоно и позвонила служанке.
Ханна Вендлинг была супругой адвоката, доктора Генриха Вендлннга. Родом она была из Франкфурта. Генрих Вендлинг уже два года находился где-то в Румынии или в Бессарабии или еще невесть где.
Глядя со стороны, вполне можно было бы назвать жизнь Ханны Вендлинг праздным, бесполезным существованием в условиях обеспеченности и довольства. И как ни странно, так же смотрела на это и она сама, вероятно, и назвала бы теми же самыми словами, не иначе. Ее жизнь, от утреннего вставания до вечернего отхода ко сну, была подобна дряблой шелковой нити, ненатянутой и скручивавшейся от отсутствия натяжения. Жизнь с ее множеством измерений теряла в этом особом случае одно измерение за другим: она едва ли владела теперь обычным трехмерным пространством; по справедливости можно было утверждать, что сны Ханны Вендлинг реальнее и ярче, чем ее бодрствование. Но хотя таково было мнение и самой Ханны Вендлинг, сути дела это все-таки не отражало, ибо при этом брались в расчет лишь макроскопические обстоятельства ее одинокого существования, тогда как микроскопические, единственно важные, были ей совершенно неведомы: ни один человек ничего не знает о микроскопической структуре собственной души, и, естественно, ему этого и не требуется.
Здесь дело обстояло так, что за внешней вялостью ее существования таилась постоянная напряженность всех его элементов. Если бы кто-нибудь захотел вырезать хоть ничтожный кусочек из этой как будто бы вялой и провисшей нити, он открыл бы в ней чудовищную энергию скрученности, судорожное движение молекул. То, что выходило наружу, привычнее всего было бы определить словом «нервозность» — в той мере, в какой под этим подразумевают затяжную изнурительную войну, которую наше «я» в каждый данный отрезок времени принуждено вести с теми мельчайшими количествами эмпирического, с которыми соприкасается его поверхность.
Однако, если это определение и подходило к Ханне Вендлинг, все же удивительная напряженность ее существа заключалась вовсе не в нервозности, с которой она реагировала на те или иные случайности жизни, в чем бы эти случайности ни состояли: запылились ли ее лакированные туфельки, кольцо ли давит на палец или картофель недоварен, — нет, дело было не в том, подобная реакция проистекала от поверхностного возбуждения, это было похоже на искристое мерцание чуть взволнованной водной глади под солнцем, это было необходимо, ибо как-то спасало от скуки, — нет, тут дело было вовсе не в том, а скорее уж в контрасте между богатой оттенками поверхностью и непроницаемым, неподвижным морским дном ее души, расположенным на такой большой глубине, что разглядеть что-либо было невозможно и никому никогда не удастся; то был контраст, в непреодолимости которого и разыгрывалась напряженнейшая игра этой души, то была необъятность между внешней и внутренней стороной сумерек, колеблющаяся напряженность, лишенная равновесия, ибо на одной стороне се — жизнь, а на другой — вечность, которая и есть морская глубь жизни и души.
Читать дальше
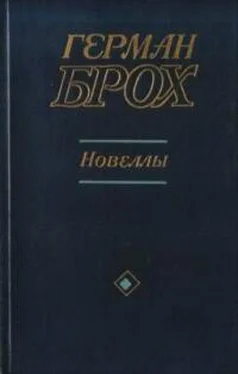
![Леонид Репин - Люди и формулы [Новеллы об ученых]](/books/32535/leonid-repin-lyudi-i-formuly-novelly-ob-uchenyh-thumb.webp)