— Верно… но и это не так просто…
— Ах, опять ты свое «не просто»! — недовольно прервала меня тетя. — И уж конечно, то, что не просто, — не для нас, старых баб… А ведь и у старой бабы разум есть… Да и что меня касается… открыто тебе скажу, как услышу слово «родина», у меня тепло на сердце, а услышу «государство» — и… ну, как бы это сказать… хорошо, что оно у нас есть, теперь мы сами у себя хозяева, и другие нам не будут указывать, ни итальянцы, ни немцы, никто!..
Я кивнул, но тетя, видимо, не заметила этого. Она решительно затянула уголки платка под подбородком и посмотрела на шумную кучку людей за рекой, которая подходила к Модриянову лугу.
— Ну, конечно! — воскликнула она, всплеснув руками. — И наш тут как тут!
— Кто? — встрепенулся я и воззрился на дорогу.
— Да дядя Томаж. Ни одной гулянки не пропустит.
— Это тот, с винтовкой? — вытянул я руку. — Тот, что рядом с Жужелчем идет?
— Он самый!
— Эй! Дядя-а-а! — крикнул я и стал махать. Я обрадовался ему, как радовался в детстве. Да и кто бы не был рад такому добряку и острослову!
Дядя остановился, всплеснул руками, сбежал с дороги и устремился к берегу, путаясь в высокой траве.
— Неужто и он в народной защите состоит? — спросил я тетю.
— Еще бы. Это как раз для него дело.
— Наоборот, не для него, — возразил я. — Кто может остаться серьезным в его компании? Ведь с ним живот надорвешь! Разве что с годами поунялся?
— Чтоб он да унялся! — фыркнула тетка. — Вот увидишь, как он, дурак старый, полезет в воду.
И в самом деле, подойдя к берегу, дядя уселся на песок — разуваться.
— Не ходи! Вода как лед! — закричала тетка.
— Ты давай огоньку приготовь, чтоб я этот лед отогрел! — лихо ответил он и жестом показал, что не прочь пропустить рюмочку.
— Дядя, погоди! — закричал я и стал разуваться.
— Тихо! — загремел он в ответ и поднял в воздух винтовку. — А впрочем, разувайся. Посреди лужи встретимся.
— Ух, нету такого умного слова, чтобы этот дурак послушался! — воскликнула тетя и полетела в дом за бутылкой.
Дядя закинул сапоги за плечо, выломал себе в ивовом кусту палку, издал молодецкий клич и вошел в воду. Он брел медленно, ноги уже не служили ему, как раньше. Ноги у него и правда были донельзя тонкие и бледные. Он подходил, а я смотрел на его лицо и все более и более убеждался, как сильно он постарел. Метрах в трех от берега он отбросил палку, прижал винтовку к боку и по всей форме отрапортовал:
— Melde gehorsamst [36] Осмелюсь доложить (нем.).
, Тушар Томаж… А, черт! — отмахнулся он и сплюнул. — Как же я отрапортую, если у немцев не было народной обороны…
— Давай, давай, болтун старый! Шевелись! — в нетерпении заверещала тетя, уже наливавшая стаканчик.
— Святая правда, — подтвердил дядя. — Болтун. И старый тоже. Видишь, — обратился он ко мне, — состарился, а не поумнел. Ни на волосок!
— Не болтай! Иди сюда! — топнула ногой тетя.
Дядя вышел на берег, подмигнул мне и таким обыденным жестом встряхнул мою руку, точно мы виделись в последний раз не далее как вчера.
— Вот полюбуйся, — сказал он, осушив стаканчик и отдав его тете, — на шесть лет моложе меня, я ей нос вытирал и еще кое-что, а она с тех пор, как ходить начала, все меня уму-разуму учит. А я отбиваюсь. «Не хватит с тебя того, что я старый? — говорю. — А если бы я еще и умный был, то и старше был бы вдвое». Говорят ведь, только старики умные.
— Обувайся, трепло! — крикнула тетка и толкнула его на песок.
— Если бы все сделались умные, — безжалостно продолжал дядя, неторопливо обтирая ступни об пук травы, — придурков бы не стало. Откуда бы тогда умные знали, что они и вправду умные? Стояли бы себе важно, как памятники на кладбище. А так мы хоть можем друг над другом посмеяться: умные над дураками, дураки над умными. Анца смеется надо мной, а я над нею.
— Вовсе я над тобой не смеюсь! — огрызнулась тетка. — Просто жалко мне тебя, чтоб ты знал.
— Сострадание — прекраснейшая добродетель. Даже в катехизисе где-то упоминается.
— Оставь в покое катехизис! — подскочила тетка как ужаленная.
— Да почиет в мире, аминь! — басом протянул дядя и, обернувшись ко мне, добавил — А знаешь, что сказал вахмистр Доминик Тестен? Он сказал: «Все мы дураки, только каждый на свой лад». И, клянусь верой, как только он этакое изрек, я сразу засомневался, такой ли уж он дурак.
— Да, кстати, что с ним, с Тестеном? — спросил я.
— На тот свет его переместили. Ха, смерть и старого веселого жандарма заберет. Вот, наверно, чудно-то ему было, что и его кто-то забрать может. Впрочем, он долго упирался. Когда пришла пора умирать, предпочел рехнуться.
Читать дальше
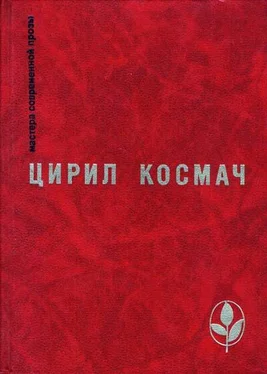

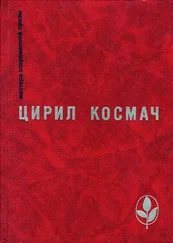

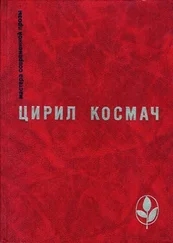
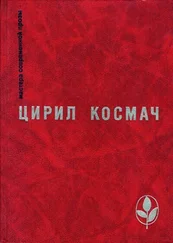

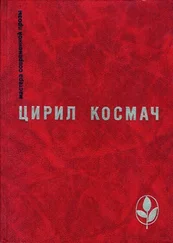




![Нина Баскакова - Весенний день или Второй шанс [СИ]](/books/420872/nina-baskakova-vesennij-den-ili-vtoroj-shans-si-thumb.webp)