— А я и не знала, что вы так разбираетесь в политике, господин Рисслер! — заметила Мэрта Брем.
Рисслер не сразу нашелся, что ответить, и его опередил Маркель.
— Помилуйте, фрекен Брем! И вы не знали, что года два назад нашего Рисслера чуть не схватила полиция за подстрекательство к мятежу?
— Вечно ты преувеличишь, — проворчал Рисслер.
— Нет-нет, это сущая правда! Был вечер выборов, два года назад. Рисслер, я и еще кое-кто вышли эдак довольно поздно из кафе Рюдберга. Площадь Густава Адольфа запрудил народ, все кричали ура в честь прошедших выборов. И тут Рисслера вдруг осеняет, что ему надо возглавить толпу, идти к «Афтонпостен» и — хохотать! «Афтонпостен», как всегда, позволила себе небольшую вылазку и, разумеется, как всегда, провалилась. Ну ладно. Рисслер встает посреди площади Густава Адольфа и орет изо всех сил: «И-дем к «Афтон-постен» и бу-дем хо-хо-тать!» И что же вы думаете? За ним-таки выстраивается целая шеренга, мимо Академии наук они идут к «Афтонпостен», и там Хенрик Рисслер, как дирижер, машет тросточкой и хохочет как оглашенный: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» А народ ему в лад: «Ха-ха-ха!» Но, улучив секундочку, сам-то он мне шепчет: «Как думаешь, а если меня сейчас схватят за подстрекательство к мятежу?» — «Схватить-то тебя могут, — отвечаю, — да только вряд ли за подстрекательство к мятежу, скорее за пьяный дебош и непристойное поведение». Тут он бледнеет и трусливо скрывается в переулке, а народ тем временем продолжает надсаживаться: «Ха-ха-ха!» — покуда не является полиция и всех не разгоняет.
— Маркель, дружище! — сказал Хенрик Рисслер. — И славный же вышел бы из меня писатель, кабы я умел так складно врать, как ты!
…Арвид Шернблум глянул на свою сигару. Почти треть была выкурена. И часы показывали уже больше половины девятого. Самое время прощаться и идти в Оперу. К двенадцати он управится с рецензией. А там возьмет извозчика, заедет за Дагмар и отвезет ее домой.
Стоя в прихожей и натягивая пальто, он вдруг увидел в просвете между портьерами маленькую, нежную головку фрекен Мэрты Брем.
— Уже уходите? — спросила она.
— Да, надо, — сказал он.
Она отодвинула портьеру и подошла к нему.
— А вы не забудете, что мне пообещали? Он смотрел на нее, не понимая.
— Что я такое пообещал? — наконец спросил он.
— Что поможете мне поместить мои рассказики в газете.
Он торопился и впопыхах все перезабыл. Но она была так прелестна, склоня головку, словно кающаяся Магдадина, — и в чем ей было каяться? Он быстро оглянулся, убедился, что никто их не увидит, взял эту милую головку, и еще ниже наклонил ее вперед, и поцеловал куда-то в затылок. А потом он поднял эту головку, и поцеловал ее в рот, и сказал: «До свиданья!» — и вышел.
В унылой декабрьской тьме падал мокрый снег. До Оперы было десять минут хода. Взять извозчика? Лишний расход…
Он шел пешком и думал о Мэрте Брем. И о Дагмар.
«Почему я раз в жизни не могу, как другие, позволить себе любовную связь? Живем ведь только раз. Дагмар хорошая женщина. Но одно и то же день за днем, ночь за ночью, из года в год приедается. Вот уже четыре года, как мы женаты, а я ей ни разу не изменил. А ведь… А ведь я же не люблю ее! Так отчего же раз в жизни мне нельзя завести любовь на стороне? Помнится, на заре юности, я мечтал оставить свое имя в истории Швеции. Что-то не похоже на то, нет, не похоже. Так отчего же тогда не довольствоваться, тем, что само плывет в руки? Вздор. Чем плоха Дагмар? И она блюдет честь дома; не мешало бы и мне заботиться о том же. Ну, а фрекен Брем… Ей попросту хочется поместить в газете свои рассказы, и в счет аванса я сорвал этот поцелуй. Не будь Торстен Хедман нынче в Греции, аванс достался бы ему… И чтобы из такого начала проросла grande passion? [13] Великая страсть ( франц .).
Сомнительно. Однако поживем — увидим…»
Но как обжег его ее маленький, острый язык…
Он увидел еще издали, что на тротуаре около Оперы толпятся люди, а газетные витрины плотно облеплены прохожими. Ему встретился знакомый журналист, и он спросил его:
— Что? Король умер?
— Пока еще нет.
…Он вошел в театральный подъезд. Время он рассчитал точно; был конец первого антракта, когда он вошел в зал и сел на обычное свое место; публика уже устремилась в партер. Низенький, плешивый господин с женой — высокой, тонкой, темноволосой, но уже чуть тронутой сединой дамой — прошли мимо него к первым рядам. Арвид знал ее в лицо и по имени. Она была та самая женщина, из-за которой Маркель в девяносто восьмом или около того попал в нервную клинику. И Арвид знал, что ей пришлось увидеть то, чего не видел больше ни один смертный: она видела, как Маркель плакал. Одно время ее называли «переходящим кубком».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
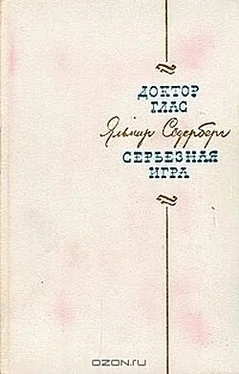






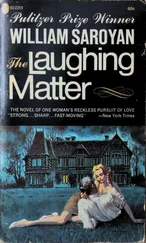
![Майя Ахмедова - Другой Ледяной Король, или Игры не по правилам [Игра вслепую + Игра с огнём + Игра в прятки]](/books/426615/majya-ahmedova-drugoj-ledyanoj-korol-ili-igry-ne-p-thumb.webp)


