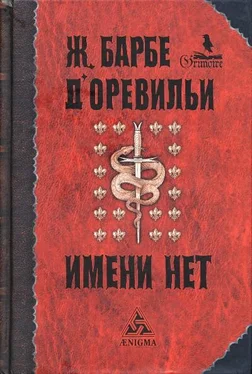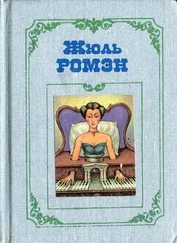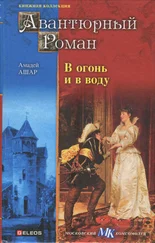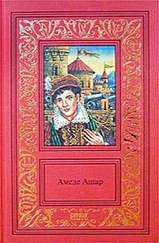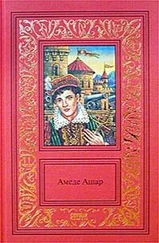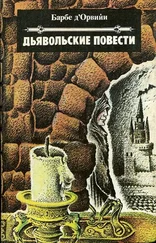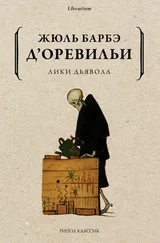Горгона теперь пробуждала сочувствие, хоть и не плакала. Чего только не перечувствовал де Тресиньи, слушая ее рассказ, но теперь он испытывал уже совсем иные чувства, нежели раньше, и взял руку женщины, которую несколько минут назад готов был презирать, и поцеловал с почтением и жалостью: ее сила и ее горе оправдали ее. «Какая удивительная женщина! — думал он. — Если бы она стала не герцогиней де Сьерра-Леоне, а маркизой де Вашконселуш, то чистотой и пылом любви к дону Эштевану снискала бы восхищение и запечатлелась в памяти поколений равной великой маркизе де Пескара [157] Княгиня Виттория Колонна, маркиза де Пескара (1490–1547) — итальянская поэтесса и друг Микеланджело (1475–1564), величайшего скульптора, художника, архитектора, поэта эпохи Высокого Возрождения. Она осталась верна памяти мужа, скончавшегося от ран после битвы при Павии (1525), прославлена как образец высокой души.
. Другое дело, — прибавил он все так же про себя, — никто бы никогда не заподозрил, какие бездны таит она в себе и как мощна и могуча ее воля».
Несмотря на привычку надо всем посмеиваться, свойственную нашему времени, когда люди совершают поступок, а потом сами же над ним смеются, Робер де Тресиньи не почувствовал себя смешным, целуя руку падшей женщине, но слов для нее он не нашел. Положение его было более чем щекотливым. Рассказанная герцогиней история бесповоротно разделила их, разрубив, словно отравленным кинжалом, ту минутную связь, что возникла между ними. Де Тресиньи испытывал и восхищение, и отвращение, и презрение, и изумление, но счел бы дурным тоном обнаруживать какие бы то ни было чувства перед этой женщиной или высказывать какие-либо сентенции. Он и сам часто иронизировал над доморощенными моралистами, каких теперь пруд пруди: под влиянием романов и пьес кто только не хотел поднимать, будто опрокинутые цветочные горшки, падших женщин. Каким бы скептиком ни был де Тресиньи, у него хватало здравого смысла, чтобы понимать, что только священник — служитель Христа-искупителя — может помочь подняться падшему. Но этой женщине вряд ли помог бы и священник… Все, о чем бы сейчас ни заговорил де Тресиньи, болезненно ранило бы несчастную, и он хранил молчание, которое ему было тяжелее, чем ей. А она, вся во власти своей одержимости и своих воспоминаний, заговорила вновь:
— Мысль не убить, а обесчестить человека, для которого честь, как ее понимает свет, дороже жизни, пришла ко мне не сразу… Много времени прошло, прежде чем она у меня возникла. После смерти Вашконселуша, о которой, возможно, никто и не знал, потому что… его тело и черных слуг, убивших его, бросили, скорее всего, в один из каменных мешков замка, герцог не обращал ко мне ни единого слова, кроме коротких и церемонных фраз при слугах, ибо жена Цезаря всегда выше подозрений, и в глазах всех я должна была всегда оставаться безупречной герцогиней д’Аркос де Сьерра-Леоне. Но когда мы оставались наедине, мертвая тишина воцарялась меж нами! Ни единого слова, ни единого намека — тяжелое молчание ненависти, которая питает сама себя и не нуждается в словах. Мы с доном Кристобалем мерились гордостью и силой. Я проглотила свои слезы — урожденной Турре-Кремата не пристало обнаруживать свое горе. Мои предки были итальянцами, скрытность у меня в крови, и я превратилась в статую, чтобы герцог не заподозрил, какие замыслы вынашивает его жена, собираясь ему отомстить. Я стала непроницаемым мрамором, закрыла все поры, через которые моя тайна могла просочиться наружу, и готовила бегство из замка, где стены давили на меня. В замке все было подвластно герцогу, в нем моя месть не могла осуществиться. Я ни с кем не делилась своими мыслями. Да мои дуэньи и камеристки не посмели бы поднять на меня глаза, пытаясь понять, о чем я думаю! Поначалу я собиралась уехать в Мадрид, но герцог был всемогущ и в Мадриде, и по первому же его знаку полиция поймала бы меня в свои сети. Дон Кристобаль без труда схватил бы меня и отправил в монастырь, откуда бы я не вышла до конца своих дней. Там, в четырех стенах за крепкими замками, я металась бы, задыхаясь от нестерпимой муки, вдалеке от мира — мира, который был мне необходим, чтобы отомстить!.. Париж, решила я, надежнее Мадрида. И стала думать о Париже. Где найдешь лучшую сцену, чтобы выставить на обозрение свой позор и отомстить! Я мечтала, что однажды весть о моей постыдной жизни молнией поразит герцога, и Париж показался мне лучшим помощником: средоточие всевозможных слухов и сплетен, вавилонское столпотворение всех наций и всех народов. Я решила, что стану проституткой в Париже, жизнь гулящей меня не страшила, я хотела опуститься на самое дно, стать последней среди продажных девок, той, что продает себя за жалкую монетку распоследнему бродяге. До того как полюбить, я была ревностной католичкой — Эштеван вытеснил Бога из моего сердца и занял его все целиком! — но я вновь стала набожной и часто вставала по ночам и одна, без камеристок, ходила в замковую часовню, чтобы помолиться перед статуей темноликой Девы. Из часовни я и сбежала однажды ночью и отважно, одна, углубилась в горное ущелье. Я взяла с собой, какие смогла, драгоценности и деньги, что лежали у меня в шкатулке. Несколько дней я пряталась у крестьян в деревеньке, потом они перевели меня через границу. Добравшись до Парижа, я без колебаний приступила к задуманной мести, которая стала моей жизнью. Я так жаждала отмщения, что хотела свести с ума какого-нибудь молодого человека и отправить его к герцогу с вестью о моем падении. Но вскоре отказалась от своего замысла: на имени Сьерра-Леоне должно лежать не пятно грязи, а целая пирамида нечистот! Чем дольше я буду мстить, тем полнее будет отмщение…
Читать дальше