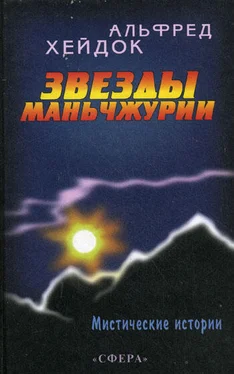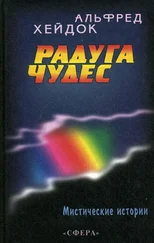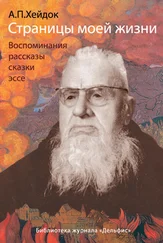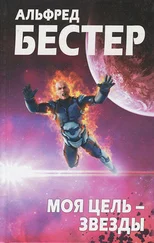Пусть говорят после этого, что нет таинственных духов, которые иногда подслушивают наши желания.
Еще раз в темноте раздалось уже совсем глухое:
— Аксинья!
И еще раз другой голос, сдавленный, еле слышный, прерываясь, прошептал: — Тише!..
Логический ход вещей неумолим: я всегда говорил, что Кузьма напрасно не ляжет в больницу, — он умер, и это случилось, право, скорее, чем можно было ожидать. Ордынцев такого мнения, что мужик, привыкший работать с утра до вечера, — умирает скорее, чем белоручка, ибо он не может примириться с ничегонеделаньем в постели. Может быть, Ордынцев и прав. Мы справили похороны и очень далеко везли покойника на кладбище, где предали его земле, которая ему, действительно, мать.
Теперь уже прошла неделя после похорон, и Аксинья ведет себя так, как будто только ждет моего решающего слова, и я стану здесь хозяином. Но разве Сатана, которого ради благозвучия предпочитают звать Мефистофелем, — разве он когда-нибудь оставляет человека в покое? Нет! Никогда! Третьего дня я ездил на станцию отвозить зерно и — к счастью или к несчастью, этого я еще не знаю, — очутился на перроне в момент прихода трансазиатского экспресса.
Кто бы мог мне сказать, каким колдовством проникаются прозаические вагоны и неуклюжие современные пароходы, если они — дальнего назначения?
Они оказывают на меня поражающее влияние… Не слетают ли к ним во время дальних странствований синеокие духи обманчивых, вечно влекущих мужчину далей? Те, кто, сизые, залегли дымкой или причудливыми облачками и стерегут тайну сокровенного обаяния мировых просторов. Не те ли они самые, кто некогда заставили нашего прапра- и перепрадедушку связать неверный и колышущийся плот, чтобы пуститься в плавание от своего обогретого и в достаточной степени надоевшего берега к другому, может быть, худшему?
Трансазиатский экспресс дышал стальными легкими; играл переливчатыми бликами на зеркальных стеклах и всем своим крайне решительным видом, включая сюда и глухой, гортанный гудок, говорил о могучем темпе жизни, о стальных молотах, поднятых для удара, и об исступленном стремлении человечества в область, беспредельного властвования над пространствами и даже — миром…
По крайней мере, таким он показался мне после месяца, проведенного в грязном, пахнущем скотным двором, хуторе.
Женщина с зажатым между пальцев томиком в руках вышла из вагона и как видение из страшно далекого и привлекательного для меня мира томной поступью проплыла мимо меня. Смесью запахов, по всей вероятности, состоящей из тончайших духов, аромата холеной кожи и волос, с прибавлением сюда нескольких капель неподдельного греха, она отравила слишком простой и ясный воздух станции, а также мой душевный мир…
В двух шагах от меня томик упал. Я его моментально поднял и вернул владелице.
— Мерси, мосье.
— Са ne vaux pa le penie, madam.
Удивленный взгляд — стремительный взлет маневрирующих бровей.
— Разве вы говорите по-французски?
— О, да, мадам!
Последовал краткий разговор. Она смеялась: филолог — и в таком странном виде — с кнутом за поясом… В этой дикой Маньчжурии… Она непременно расскажет об этом в Париже… Что? Поезд трогается?.. Пусть мосье оставит у себя томик французских стихов — они прелестны…
Трансазиатский экспресс ушел. Я наудачу раскрыл книгу и прочел Поля Верлена:
Мне часто видится заветная мечта,
Безвестной женщины, любимой и желанной.
Но каждый раз она и совсем не та,
И не совсем одна, — и это сердцу странно.
— Во всяком случае, — сказал я, закрывая книгу, — моя мечта — не Аксинья!
* * *
Я покинул хутор, но Ордынцев остался. Мне кажется, что он скоро займет там вакантное место хозяина; Аксинья при расставании особенной горести не проявила… Листьев на деревьях уже нет — падает первый снег. Я иду сильный и окрепший, сам хорошо не зная — куда! В моей голове, подобно одуревшим пчелам, роятся обрывки мечты: там и большие города, и пальмы, и бананы, и синеокие духи дремлющих далей.
Караван шел на запад. Груженые верблюды высоко несли уродливые головы с застывшим презрением на уродливых губах. Когда путь вытянулся уже во многие сотни верст, — некоторые из них пали и остались лежать, вытянув закоченелые, желвастые ноги. Остальные проходили мимо них и плевали зеленой пеной, потому что презирали решительно все — и жизнь, и смерть. С величайшим бесстрастием, как подобает философам, презревшим бытие, равнодушно, ступали по сыпучим пескам и голым, растрескавшимся каменным черепам угрюмых возвышенностей.
Читать дальше