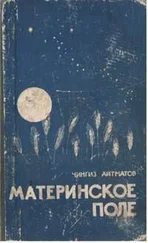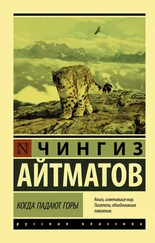А теперь думали-гадали, как быть.
Едигей, однако, настоял на своем.
— Да бросьте вы неджигитские речи, — урезонил он молодых. — Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите, там, где предки лежат. Там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем. Путь предстоит не близкий. Завтра с утра пораньше двинемся…
Все понимали — Едигей имел право принять решение. На том и согласились. Правда, Сабитжан пробовал было возразить. Подоспел он в тот день попутным товарняком, пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще тот или нет, уже одно это растрогало и даже обрадовало Едигея. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединен-ные общим горем и печалью. Едигей потом удивлялся себе. Прижимая Сабитжана к груди и плача, он не мог совладать с собою, все говорил, всхлипывая. «Хорошо, что ты приехал, родимый, хорошо, что ты приехал!» — точно бы его приезд мог воскресить Казангапа. И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять, никогда с ним такого не случалось. Долго они плакали во дворе, у дверей осиротевшей мазанки казангаповской. Что-то подействовало на Едигея. Вспомнилось, что Сабитжан вырос у него на глазах, мальчонкой был, любимцем отца был, возили его учиться в кумбельскую школу-интернат для детей железнодорожников, как выпадало свободное время, наезжали проведать — то попутным сос-тавом, то верхами на верблюдах. Как он там, в общежитии, не обидел ли кто, не натворил ли дел каких недозволенных, да как учится, да что говорят о нем учителя… А на каникулах сколько раз, укутав в шубу, увезли верхами по снежным сарозекам, в мороз да вьюгу, чтобы только не опоздал на занятия.
Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло, как сон. И вот теперь стоит взрослый человек, лишь отдаленно напоминающий того, каким он был в детстве — пучеглазый и улыбчивый, а теперь в очках, в широкополой приплющенной шляпе, при галстуке. Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным, большим работником, а жизнь штука коварная, не так-то просто выйти в начальники, как сам он не раз жаловался, если нет поддержки хорошей да знакомства или родства, а кто он — сын какого-то Казангапа с какого-то разъезда Боранлы-Буранного. Вот несчаст-ный-то! Но теперь и такого отца нет, самый никудышный отец, да живой, в тысячу раз лучше прославленного мертвого, но теперь и такого нет…
А потом слезы унялись. Перешли к разговорам, к делу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий, не хоронить приехал отца, а только отделаться, прикопать как-нибудь и побыст-рей уехать. Стал он мысли такие высказывать — к чему, мол, тащиться в эдакую даль на Ана-Бейит, вокруг вон сколько простора — безлюдная степь Сары-Озек от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку железнодо-рожной линии, пусть лежит себе старый обходчик да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю: избав-ление от мертвого в погребении скором. К чему тянуть, зачем мудрить, не все ли равно, где быть зарытым, в деле таком чем быстрей, тем лучше.
Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе и времени в обрез, известное дело, начальству какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство, и город есть город…
Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал навзрыд, растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места, сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у стены, и ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой день чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только:
— Места-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких где попало. Неспроста, должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому? — И замолчал, и его молча слушали боранлинцы.Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела.
И пошел с потемневшим, неприязненным лицом подальше от греха. Брови его сошлись на пере-носице. Крут он был, горяч — Буранным прозвали еще и за то, что характером был тому под стать. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабитжаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслуживал. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь! Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушу-каются, возмущаются — приехал, мол, сынок хоронить отца как в гости. С пустыми руками в кар-манах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, сноха-то городская, могла бы уважить, приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда, ни совести. Когда старик был жив да при достатке — пара дойных верблюдиц, овец с ягнятами полтора десятка, — тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели да машину заодно, а потом и старик оказался ненужным. Теперь и носа не кажет. Хотели было женщины шум поднять, да Едигей не позволил. Не смейте, говорит, и рта и раскрывать в такой день, и не наше это дело, пусть сами разбираются…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу