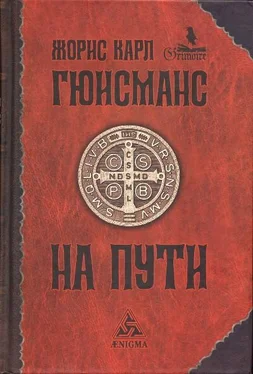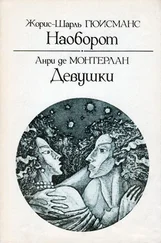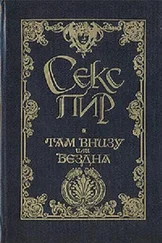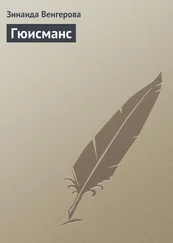Между тем, в обычное время он туда не ходил: эта церковь казалась слишком большой и холодной, к тому же такой безобразной! Дюрталю больше нравились храмы поменьше и потеплее, в которых еще сохранялись следы Средних веков.
Так в дни бесцельных прогулок, выйдя из Лувра, где подолгу забывался перед полотнами примитивных художников, он забредал в старую церковь Сен-Северен, {18} затерянную в одном из беднейших уголков Парижа.
Туда он переносил образы тех картин, которыми восхищался в Лувре: он вновь созерцал их там, где и было их настоящее место. И то были прекрасные часы, когда он носился в тучах гармоний, прорезаемых громами органа и яркими молниями детских голосов.
Там, даже не молясь, Дюрталь чувствовал, как в него проникает жалостливое томление, неясная тревога. Сен-Северен его очаровывал, помогал, как никакой другой храм, внушить себе неизъяснимое впечатление радости и жалости, а иногда, в минуты размышлений о похабстве чувственности, даже выстлать душу раскаянием и страхом.
Он ходил туда часто — чаще всего по воскресеньям к десяти часам, к великой мессе.
Он садился за алтарем, в той изящной меланхолической апсиде, что, словно зимний сад, будто обсажена редкими диковатыми древесами. Она похожа на каменную колыбель, окруженную старыми-старыми деревьями, в цветах, но без листьев, — лесом квадратных или граненых колонн с аккуратными канавками у основания, по всей длине желобчатыми, как черешки ревеня, и перистыми, как сельдерей.
На вершинах этих стволов не раскидывалась крона: они переплетали на сводах свои обнаженные ветви, соединялись, дотягивались друг до друга и в точках соединения, в глазках прививки выпускали необыкновенные букеты геральдических роз, аристократических ажурных цветов. Вот уже четыреста лет, как сок в этих деревьях остановился и рост прекратился. Навек изогнутые цветоножки остались нетронутыми; белая кора колонн лишь чуть-чуть потрескалась, но большая часть цветов изветшала, геральдические лепестки поотламывались, от некоторых замковых камней остались только чаши слоистого камня, шероховатые, как птичьи гнезда, пористые, как губки, мятые, как порыжевшие кружева.
И среди всей этой мистической флоры, среди этих разметавшихся деревьев было одно, странное и прелестное, наводившее на фантастическую мысль: как будто сизый стелющийся дым благовоний сконцентрировался, свернулся, побледнев от времени, закрутился и из него получилась спираль этой колонны; она крутилась вокруг своей оси и наконец распускалась снопом переломанных стеблей, падавших от самого верха свода.
Тот угол, в котором хоронился Дюрталь, еле-еле освещался через стрельчатые витражи с черной ромбовидной сеткой — крохотными квадратиками, потемневшими от вековой пыли, еще вдобавок затененные стропилами капелл, доходившими до их середины.
Эта апсида была, так сказать, застывшим массивом деревянных скелетов, теплицей вымерших пород семейства пальмообразных, напоминавших какие-то невероятные фениксы, немыслимые латании; но помимо того, своей полумесячной формой, своим полумраком она приводила на память нос затонувшего корабля. К тому же через ее иллюминаторы с маленькими стеклышками в решетке черных свинцовых переплетов доносился приглушенный шорох, подобный шуму реки (на самом деле катились по улице экипажи), в желтоватых водах которой мерцают потускневшие искорки дневного света.
По воскресеньям в час великой мессы в этой апсиде никого не было. Вся публика заполняла неф перед главным алтарем, а кое-кто проскакивал дальше, в капеллу Богоматери. Поэтому Дюрталь оставался чуть не один, но даже те, кто проходил через его убежище, не были ни смущены, ни рассержены на него, как прихожане других церквей. Квартал был нищий, и люди все очень бедные: старьевщики, перекупщики, сестры милосердия, детвора, оборванцы; больше всего было женщин в лохмотьях: они ступали на цыпочках, становились на колени, не оглядываясь; бедняжек смущала даже чахлая пышность алтарей; они едва смели с покорностью поднять глаза, а когда за спиной проходил привратник, склонялись до земли.
Дюрталь, растроганный немым смирением этих неимущих, слушал мессу, которую пел небольшой, но хорошо выученный хор. Капелла Сен-Северен лучше, чем в Сен-Сюльписе (где службы, впрочем, совершались гораздо пышнее и правильнее), исполняла чудо древнего распева — Credo [40]. Она возносила его до самой вершины хоров, и когда негромкий голос певчего отпускал в медленный, благоговейный полет стих et homo factus est [41], напев с широко распростертыми крыльями словно парил над ниц лежащей паствой. Он был и лапидарен, и текуч, нерушим, как сами члены Символа веры, вдохновлен словами, которые Дух Святой говорил апостолам, в последний раз собравшимся возле Христа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу