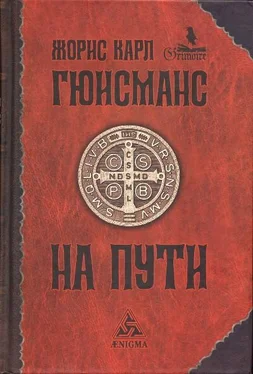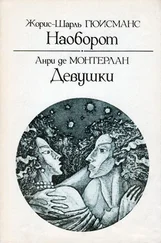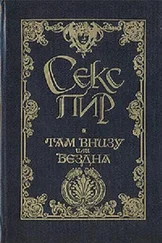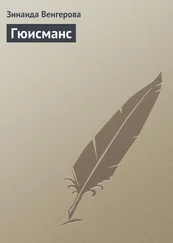Положим даже, что он их раскопает, но сможет ли раскрыть ее житие? Он полагал, что нет, и это мнение покоилось на вполне убедительных, как казалось ему, основаниях.
Агиография — ныне забытая отрасль искусства; с ней случилось то же, что с деревянной скульптурой и с миниатюрами древних служебников. В наши дни ею занимаются одни лишь попы да ктиторы — порученцы казенного стиля; кажется, в их писаниях на ломовой подводе слога едва ухватишь соломинку мысли. В их руках житийная проза превратилась в собрание общих мест пустосвятства, статуэтками в духе Фрок-Робера, хромолитографиями в духе Буасса, перенесенными в книги.
Так что путь был свободен, и поначалу казалось, что катить по нему легко, но, чтоб передать все очарованье легенд, нужен наивный язык отошедших столетий, чистые словеса опочивших эпох. Как ныне выразить страдальческую суть и непорочный аромат «Золотой легенды» Иакова Ворагинского? {13} Как соединить в одном невинном букете печальные цветы, что растили монахи в своих вертоградах, если агиография — родная сестра варварского и прелестного искусства миниатюристов и витражистов, пылкой и целомудренной живописи примитивов?
А ведь нечего и думать сочинить прилежную имитацию таких произведений, пытаться равнодушно им подражать! Тогда остается выяснить, можно ли средствами современного искусства очертить смиренно-возвышенный облик святой жены, а это было по меньшей мере сомнительно, потому что уклонение от действительной простоты, слишком хитроумно раскрашенный стиль, ухищрения старательного рисунка и фальшь наляпанного колорита наверняка превратит блаженную в каботинку. {14} Получится не святая, но актриса, умело, а то и неумело, сыгравшая роль святой; и чары сразу рассеются, чудеса покажутся театральными эффектами, каждая сцена нелепой. А еще, еще… да! желая извлечь свою героиню из могилы, дать ей новую жизнь в своем сочинении, надо иметь такую веру, чтоб была поистине живой, надо верить, что героиня — святая.
Что-что, а это совершенно непреложно. Вот сам Гюстав Флобер написал замечательную повесть по мотивам легенды о святом Юлиане Милостивце. {15} Строки его проходят перед вами в роскошном правильном порядке; течет превосходный язык, чья видимая простота создана сложнейшими приемами немыслимого искусства. Все есть в этой повести, кроме одной черты, и без нее-то она не становится настоящим шедевром: с этим сюжетом под великолепными фразами должен гореть огонь, а его-то и нет; нет возгласа изнемогающей любви, дара сверхчеловеческой оставленности, нет духа мистики!
А вот «Лики святых» Элло {16} — это стоит прочесть. Вера бьет ключом из каждого изображенья, восторг изливается в каждой главе, неожиданные сближенья закладывают между строк неисчерпаемые цистерны для мысли. Но что же? Элло до того не художник, что самые дивные легенды рассыпаются у него в руках, едва он их коснется; скудный слог обедняет и чудеса, делает их пресными. Чтобы изъять эту книгу из разряда бесцветных, мертвых трудов — искусства-то и не хватает!
Пример этих двоих — не было двух более противоположных друг другу писателей, и меж тем один из них не мог сделать совершенной легенду о святом Юлиане, потому что ему не хватало веры, а другой не достиг совершенства из-за невосполнимой нехватки мастерства — совсем обескуражил Дюрталя. Нужно было бы стать тем и другим вместе, при том оставаясь собой, думал он, сидя в кресле. А иначе зачем и браться за такое дело? Тогда уж лучше молчать; и он в отчаянии хмурил брови.
Тогда в нем быстро возрастала ненависть к своей пустынной жизни; он вновь и вновь задумывался: чего же ради Провидение так мучает все потомство первых осужденных Богом? Ответа он не находил, но должен был хотя бы признать, что Церковь подбирает весь человеческий мусор из-под развалин, принимает потерпевших крушение, возвращает на родину, дает им надежное жилище на остаток дней.
Подобно Шопенгауэру, от которого Дюрталь некогда с ума сходил (но теперь ему надоели его инвентарные списки, постыли высушенные гербарии), подобно Шопенгауэру, Церковь не завлекала человека, не сбивала его с толку, воспевая достоинства жизни: она знала, что жизнь подла.
Во всех богодухновенных книгах она вопияла об ужасе бытия, оплакивала непременную повинность существования. Экклесиаст, Иисус Сирах, книга Иова, Плач Иеремии каждой строчкой свидетельствуют эту скорбь. Средние века в «Подражании Христу» тоже прокляли эту жизнь, {17} во весь голос воззвав к смерти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу