— Ничего, друзья, не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет! [30] Джон Мильтон. «О слепоте», пер. С. Маршака.
И мы обогнали их, мы их оставили далеко позади, и они исчезли. И вот уже нет ничего — только ночь, ослепительные звезды, лиловая темнота в парке и — господи! Какая прелесть! Было самое начало мая, распускались все листики и почки, все пушистое такое, нежное, а в небе тоненькая стружка месяца, и так прохладно было, так чудно, и запах листьев, и новой травы, и цветы лезли из земли, так что даже слышно было, как они растут, — никогда еще мне не было так хорошо, и я посмотрела на отца, и у него в глазах стояли слезы, и он крикнул: «Благодать! О! Благодать!» — и потом начал своим невероятным голосом:
— «Какое чудо природы человек! Как благороден разумом! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках как близок к ангелу! В воззреньях как близок к богу!» [31] «Гамлет», акт 11, сц. 2, пер, Б. Пастернака.
Совершенно волшебные слова, и какая музыка, и мне захотелось плакать, и когда он кончил и еще раз крикнул «Благодать», я увидела в темноте его неистовое, прекрасное лицо, и я подняла глаза к небу, к печальным, невероятным звездам, и какая-то тень судьбы была над его головой, в его глазах, и вдруг, глядя на него, я поняла, что он скоро умрет.
И он кричал «Благодать! Благодать!», и мы летели, летели сквозь ночь, снова, снова по всему парку, а потом светало и все птицы начали петь. Вот птичья песня ворвалась в рассвет, и вдруг я различила каждый звук птичьей песни. Это было как музыка, которую я слышала всегда, как музыка, которую я всегда знала, только никогда не говорила про ее звуки, а теперь я различала музыку каждого звука, ясную, яркую, золотую, и вот какая она была, эта музыка каждого звука: сперва она рассыпалась надо мною очередью выстрелов, а потом быстрыми, звонкими шлепками. И вот звуки стали нежными, мягкими каплями золота, слитками яркого золота, а потом, чирикая, пререкаясь, шурша, журча, полился блажной, медовый птичий грай, И запело птичье дерево, сплошными лютнями на свету, и бреньк, треньк, цокот, и глупенький, тоненький стрекот — все слилось, потекло — лютенный мед, лирное миро, пушистая, мягкая теплота. И я различала быстрый-быстрый чик-чирик — чик-чик птах поскромнее, их уютное пи-пи-пи, а другие строчили воздух звонкими, четкими стежками, рвали резким карканьем, резали острыми дальними кликами — вот как кричали все птицы. Все птицы, которые проснулись в зарослях парка. А над ними в вышине плавал шелест невидимых крыл, странный потерянный крик неведомых птиц в совсем уже светлом парке, и все смешалось так сладко. «Мне сладостны: и утра первый вздох, и первый свет, и ранний щебет птах…» [32] Джон Мильтон. «Потерянный рай». Кн. IV, пер. А. Штейнберга.
Да, именно, вот уж поистине, и встало солнце, и это было как в первый день творенья, и это было за год до того, как он умер, и мы, кажется, жили тогда у Беллы, а может, в старой гостинице, хотя, наверно, мы уже переехали к тете Кейт, — мы так часто переезжали, где только мы не жили, и все это кажется так давно, и как начинаю про это думать, все путается у меня в голове и я ничего не могу вспомнить.
Было утро, сияющее утро, яркие пылинки утра плясали в майском луче, и вот Джеймс проснулся. Старик и просторной комнате огромного дома в районе Восточных Семидесятых у Центрального парка. Небольшого роста, жилистый, яркоглазый человек в огромной спальне одного из тех отвратительно роскошных, приторно разукрашенных, возведенных из белого известняка, облицованных мрамором и увенчанных мансардными крышами псевдофранцузских шато, каковые во множестве строились лет сорок или пятьдесят назад, когда какой-нибудь богач лез вон из кожи, чтобы угодить жене. Но год теперь был тысяча девятьсот двадцать девятый, месяц май, сияло утро, и вот Джеймс проснулся.
Проснулся он так же, как все всегда делал: очень отчетливо, внезапно и напористо, с некоей бескомпромиссной агрессивностью. Не в его обычае было шутки шутить с дремотой: раз уж он со сном разделался, он с ним разделался. Он любил комфорт и во всем все самое лучшее, но ненавидел мягкотелость, лень и жалкую нерешительность. Всему отводилось должное время и место — время для работы, время для спорта, для путешествий, удовольствий и светской жизни; время для хорошего обеда, для бренди и доброй сигары; и как завершение всему — время для сна. Джеймс всегда знал, когда и чему наступает время.
Читать дальше
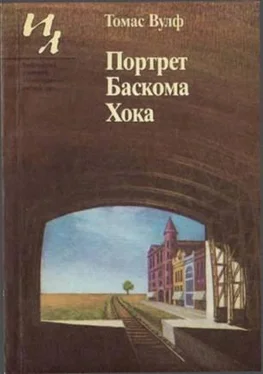

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)
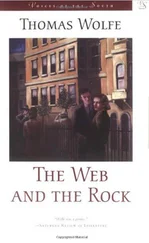
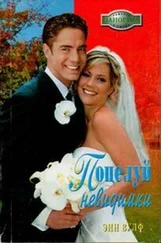



![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [litres]](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-thumb.webp)
