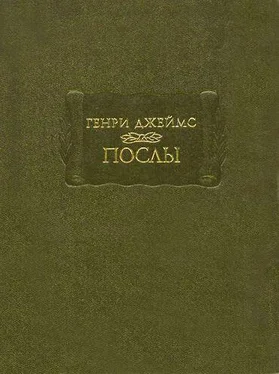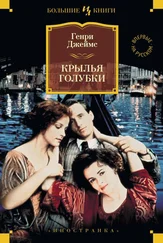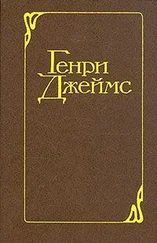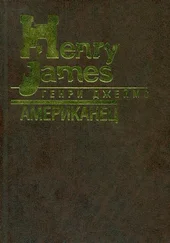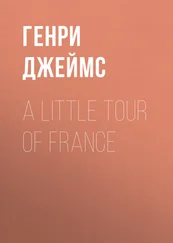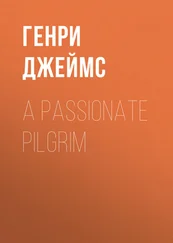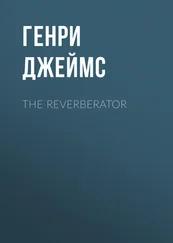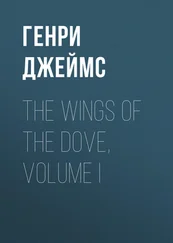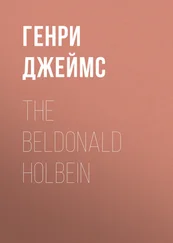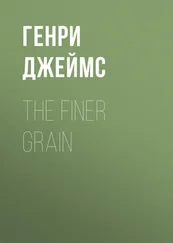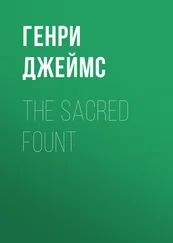Действительно ли она оказалась, по сравнению с предшественниками, более тонкой? На такие вопросы никогда нельзя ответить с определенностью. Во всяком случае, даже и сегодня свершения Джеймса не всем кажутся несомненными. Но по справедливости необходимо признать, что художественная новизна его книг, тем более последних, реальна и постоянно ощутима. Другое дело, что ее много раз осмеивали как совершенно бесполезное изобретение. Еще при жизни Джеймса один из его основных антагонистов Уэллс с присущей ему язвительностью заметил, что эта проза напоминает гиппопотама, старающегося достать горошину, которая закатилась куда-то в глубь логова. При всей выразительности этой метафоры она, однако, неточна. Никто не упрекнет Джеймса в том, что его повествование громоздко и неуклюже.
Этого, впрочем, не подразумевал и сам Уэллс, поскольку вся соль его комментария заключается в «горошине», в ничтожестве эффекта, потребовавшего таких усилий. Примерно так же отзывался о Джеймсе, хотя многое ценя в его книгах, Хемингуэй, находивший в них бездну «риторики», т. е. стилистических ухищрений, за которыми почти исчезает сам предмет, так что мы вынуждены читать прозу «ни о чем». На взгляд тех, кто остался верен пониманию задач прозы, отличавшему классиков XIX столетия, искусство Джеймса должно было выглядеть каким-то эфемерным, почти бесплотным. Однако можно взглянуть на это явление и по-другому, тогда окажется, что Джеймс принадлежит к числу предтеч литературы уходящего XX века.
Об этом раньше (а пожалуй, и убедительнее) всех заговорил выдающийся английский литературовед Ф.-Р. Ливис в книге «Великая традиция» (1948), где как раз рассмотрен переход от XIX к XX веку, глубоко затронувший искусство повествования, и это явление описано на примере творчества Элиот, Джеймса, Конрада, причем именно Джеймс предстает как фигура ключевая. В последних произведениях Джеймса, писал Ливис, начинается и принимает необратимый характер процесс разрушения классических моделей повествования, который будет происходить на протяжении всей новейшей эпохи в истории литературы. Несколько схематизируя, этот процесс, вслед за Ливисом описанный многими исследователями, можно определить как усиливающееся неверие в возможность воссоздать действительность опознаваемо и объективно, поскольку сама действительность начинает восприниматься как проблема – ее смысл постоянно ускользает, видимое и сущее уже перестают выступать не то что с наглядностью, но хотя бы до некоторой степени опознаваемо. Объективная картина потеснена субъективной версией, даже множеством версий, за которыми скрыта неуверенность в том, что все проходящее перед взором наблюдателя и вправду составляет реальность, и сомнение во всем, кроме крепнущего чувства невозможности охватить и объяснить такую реальность хотя бы с относительной полнотой. Радикально меняется понимание причинных связей, присущее культуре XIX века, и литература устремляется к постижению тайн видимого мира, не обманываясь его кажущейся ясностью и упорядоченностью, как и мнимой твердостью моральных установлений, которые в нем приняты.
Джеймс, как теперь признано почти всеми писавшими об этом прозаике, особенно заметно способствовал подобной перемене общего взгляда на реальность, а также эстетических способов ее постижения. Приводились разные обоснования причин, предопределивших такую его роль в литературе рубежа XIX–XX веков. Чаще всего варьировалась мысль, высказанная крупнейшим американским критиком Э. Уилсоном в мемориальном номере журнала «Хаунд энд хорн» за 1918 год, увидевшем свет вскоре после кончины Джеймса. Уилсон отмечал, что в произведениях этого писателя образ мира размыт и нечеток, они кажутся бессобытийными, почти бессодержательными или, во всяком случае, построены вокруг самых тривиальных происшествий. Тем удивительнее, с каким искусством подобным происшествиям он умеет придавать значение или по меньшей мере вид события, становящегося решающим в судьбе персонажей. Но еще загадочнее другое: само происшествие, объективно рассуждая, почти ничтожное, никогда не бывает под пером Джеймса воссоздано в последовательности своих незамысловатых причин и следствий.
В этом происшествии, а тем более в побудительных мотивах героев, непременно заключена доля непроясненности, так что читатель вынужден о многом только догадываться, ломая себе голову над тайнами, вовсе не заслуживающими таких интеллектуальных усилий. Тут своего рода игра; Уилсону казалось, что он отыскал причину, заставлявшую Джеймса предаваться выдуманной им игре с таким самозабвением, – просто это был способ приглушить вечно накаленное и всегда мучительное чувство, будто он сам не в состоянии найти такую позицию, которая позволила бы ему постичь в окружающем мире некие прочные связи и неотменяемые законы. «Всю жизнь, – писал Уилсон, – Генри Джеймс смотрел на мир то как англичанин, то как американец, и думаю, что невозможность совместить два эти взгляда порождала порою столь свойственное ему неумение четко выразить собственные мысли о людях и их поступках». [136]
Читать дальше