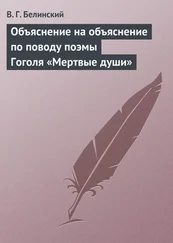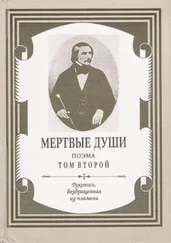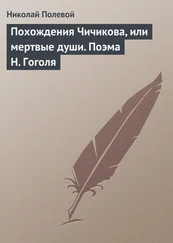Порошки, принесённые Петрушкою, Чичиков проглотил с большим трудом, потому как горло его принялось ломить острою ломотою. Бальзамические капли закапаны были им в нос, но не принесли ожидаемого облегчения, и Павел Иванович снова провалился в некое подобие сна, заполнившегося жарким бредом.
Бред сей был зол и томителен. Многие и многие образы всплывали в нём, тревожа и бередя душу Павла Ивановича, потому—то он стонал и ворочался во сне, затихая лишь когда являлся ему дорогой образ Надежды Павловны, что будто бы гладила его по волосам ласковою своею рукою, как гладит маменька захворавшего своего сыночка. Но затем Надежда Павловна уплывала от него, глядя на нашего героя полными слёз, прекрасными своими глазами, и он снова начинал стонать и ворочаться на постеле.
Порою, словно бы стряхнувши с себя тяжкие и липкие сновидения, что обвивали его мозг, приходил он в себя и глядя по сторонам, не узнавая нумера, не мог понять того, где находится и каковым ветром занесло его под этот унылый кров. Сквозь приотворённую дверь, ведущую в «людскую» видел он Селифана с Петрушкою, сидевших у стола, уставленного бутылками. Оба они уж были сильно пьяны, оба разве что не спали, повиснувши на стульях чёрными тряпичными кулями, но чья—то рука, кого—то третьего, присутствовавшего в «людской», подливала им водку в их быстро пустеющие стаканы.
Не видя сего третьего их собутыльника, Чичиков и без того знал, кто это был. Он ощутил тут некую решимость встать и воспротивиться этому! Воспротивиться сей попытке воспользоваться его немощью и надругаться над ним, надругаться над его судьбою, его стремлениями и трудами.
«Убью! Убью всякого!..», — подумал он, чувствуя решимость и несказанную тоску от той мысли, что дешёвая и замызганная эта гостиница, вероятно, станет последним его приютом на сей холодной и безрадостной земле.
Сюда ли стремила бег свой его тройка, на которой исколесил он всю Россию, здесь ли должна окончиться его жизнь, исполненная ухищрений, унижений, подлогов, предательств и преступлений на которые шёл он, как ему казалось, необходимости ради, а не из скверности своей натуры. От обиды и жалости к себе, на глаза ему навернулись слёзы. Потёртые в ободранных обоях стены окружали его, оконце пыльное и кривое глумливо усмехалось, глядя в ему в лицо тусклым зрачком висевшего на тёмной улице фонаря, что дрожал и скрипел под ударами глухой метели, сотрясавшей стены дома и кидавшей в стёклы слепых окошек пригоршни колючих ледышек.
Боль, та, что ранее была в горле, опустилась уж нынче вниз и словно бы сковала ему рёбры тугою железною цепью. Дышать Павлу Ивановичу становилось всё труднее и труднее, а сердце колотилось в груди с такою неистовою и болезненною силою, что казалось, ещё немного и оно, разорвавшись, разлетится на сотни и сотни мелких клочков и осколков. Жар его сделался ещё сильнее и комната точно бы поплыла от этого жара, как плывет и тает свеча под силою сжигающего ея пламени. Знакомые предметы уж принялись менять свои очертания, уж меж ними зашевелились какие—то тени, какие—то рожи принялись, выглядывая из углов и словно бы махая мохнатыми своими лапами, манить куда—то лежавшего в поту на постеле Павла Ивановича.
Нетвёрдою рукою нащупавши стоявший у изголовья кровати кувшин с холодною водою, стал он лить воду на своё лицо, на голову, стремясь прогнать нестерпимый сей жар. Подушка, и без того мокрая от поту, напиталась тут холодною водою точно губка, но сие казалось Павлу Ивановичу приятным. Выливши на себя остатки воды, он огляделся кругом. Комната вновь была на месте и рожи, только что пугавшие и манившие его, исчезнули, точно бы попрятавшись по углам в лежавшей там тени. Но на место их явилась та самая баба в синей запаске. Она стояла у постели Павла Ивановича и пытливо вглядываясь в его лицо, слушала хриплое его дыхание, с трудом рвавшееся из скованной невыносимой болью груди.
«Ждёт, — подумал Чичиков, — ждёт!»
Он попытался было попросить её послать за священником, но язык уж более не повиновался ему. Казалось, что наместо языка кто—то вложил ему в уста кусок сухого жаркого камня, отчего с губ его сорвалось нечто, более напоминавшее мычание, нежели членораздельную речь. Сие развеселило бесовскую бабу, потому что она хихикнула коротким смешком, словно бы хрюкнувши в притиснутый ко рту круглый кулак. После чего уж без церемоний принялась шарить под кроватью у Павла Ивановича, и в самое короткое время, кряхтя и отдуваясь, вытащила на середину комнаты некогда белый его чемодан.
Читать дальше