Многогранная, довольно хитроумная болванка, испещренная зарубками и крестиками, позволяла высчитывать на несколько лет вперед переходящие христианские праздники.
Розовый, даже красный конь на картине К. Петрова-Водкина вовсе не плод фантазии. Рыжий мокрый лошадиный круп на солнце кажется действительно огненным.
Она утрачивается от неумелого нарочитого заимствования. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в чебуречную где-нибудь в Архангельской области либо в среднеазиатскую блинную.
Мука занимала больший объем, чем зерно. Уезжая на мельницу, зерно засыпали в мешки не «под завязку», а чуть меньше, чтобы после размола не оказалось «лишней» муки.
Та самая, на коей Иван-дурак кинул в печь Бабу Ягу.
Перед тем как совсем прекратить выпечку домашнего хлеба, начали было печь в железных формах, буханками.
Чисто ржаной хлеб в настоящее время довольно большая редкость, его пекут в смеси с кукурузной или ячменной мукой. Влияет на свойства хлеба и изменившаяся технология уборки, обмолота, сушки зерна.
Минимальный вклад двадцать фунтов, то есть полпуда ржи (около восьми килограммов). Большие вари, когда один хозяин мочил пять-шесть пудов, были у нас редки, но на северо-востоке Вологодской области мочили иногда и больше.
Тшан — чан.
Деревянная лопатка с узкой лопастью и длинным чернем. От слова «навеселить», то есть взболтать и пустить в ход какую-либо жидкость, например пиво.
Зерно, прорастая, образует плотную войлокообразную массу, которую можно передвигать и даже складывать пополам.
Иногда на не очень горячей печи.
Автору удалось записать лишь две строки этой песни: «Пробудилися дружки, а на ходунье ледешки».
В старину для поварни рубили и оборудовали специальное помещение.
Процеживать через решето и отжимать хмель.
«Свежий мелок да хороший жарок — вот и будет пирог», — утверждает пословица.
Растопленная перед огнем сметана.
В некоторых местах Севера так называли рожь, но на родине автора к житу относили только ячмень, пшеницу и овес.
Опихать — толочь в ступе, обдирать кожуру с овса или ячменя
Фиктивный, обманный пирог, соленый загиб «без ничего».
Саламат — рассыпчатая, хорошо промасленная каша из овсяной крупы.
Мельницу, где имелись и жернова и ступы, называли двухпоставной.
Блины из ячневой и пшеничной муки пекли значительно реже, зато шаньги невозможно было испечь из овсяной.
Парево, мякина, коглина — отходы обмолота ржи, ярового, льна и гороха.
Толокно, разведенное молоком, замешенное на простокваше, ели с ягодами, суслом и т. д.
На родине автора его называли дойник.
Вершок — сметана, получающаяся при квашении молока.
«Существовало поверие, — сообщает Н. П. Борисов, — что репу надо сеять ночью и… без штанов. Это, видимо, идет от язычества, символизирует плодородие. Знаю примеры, видел сам».
См.: Солоухин В. Третья охота. М., «Советская Россия», 1968.
Сахар в крестьянском быту всегда был предметом роскоши и дефицитным продуктом, поэтому варенье никогда не было в моде. Лишь в последние годы на варенье используются не килограммы, а целые пуды сахару, да и то больше отпускниками.
См.: Яшин А. Угощаю рябиной (Избранные произведения в 2-х т. Т.2. М., «Художественная литература», 1972).
Самовары на родине автора в деревне Тимонихе служат 60–80 лет без каких-либо признаков накипи.
Нередко он становился предметом экономически необходимой или просто забавляюще-развлекательной мены. На самовар можно было выменять, например, гармонь, или ружье, или наручные часы, а иногда даже баню либо плохую корову.
В последнее время разница между праздничной и рабочей одеждой все чаще считается пережитком прошлого. Кое-кто из молодежи считает особым шиком прийти на люди, в клуб, в кино в грязной рабочей одежде, либо, наоборот, в праздничной одежде лихо сесть за штурвал комбайна, за рычаги трактора и т. д. Трудно придумать более уродливую эстетику!
Читать дальше
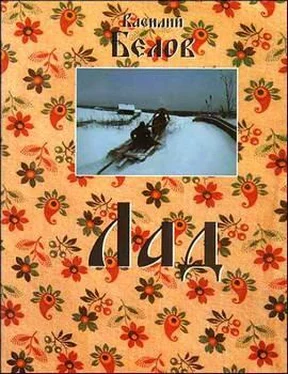
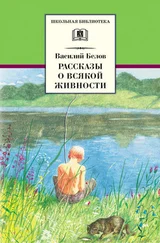








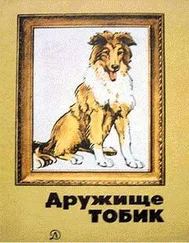
![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
