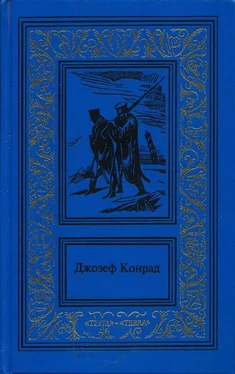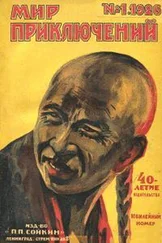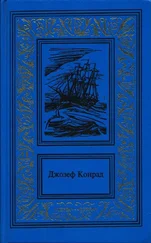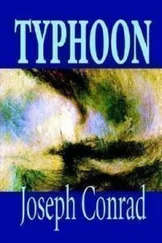«Понимает больше моего», — подумал, уходя, Шомберг, домольный избавлением от общества охотника на крокодилов. «Что это за люди?» — спрашивал он себя, но не находил никаких правдоподобных предположений. Он спросил их имена в гот же день.
— Чтобы записать в книгу, — пояснил он, спрашивая, со своей военно-церемонной манерой, вытягивая грудь и голову вперед.
Бритый человек, распростертый на кушетке с видом увядшего юноши, поднял на него ленивый взгляд:
— Мое имя? Мистер Джонс. Просто Джонс — так и запишите: свободный джентльмен. А это — Рикардо.
Изрытый оспой человек, валявшийся на другой кушетке, сделал гримасу, точно что-то пощекотало ему кончик носа, но не вышел из своей неподвижности.
— Мартин Рикардо, секретарь. Вам больше ничего не нужно знать о нас, не правда ли? А? Что? Профессия? Напишите… Ну да, напишите — туристы. Нас и похуже называли, нас это не обидит. А куда вы девали моего парня? Ах, так хорошо. Когда ему что-нибудь нужно, он сам берет. Это Питер, гражданин Колумбии, Питер, Педро, я не знаю, было ли у него когда-либо другое имя. Педро, охотник на крокодилов. Да, да, я заплачу по его счету у метиса. Приходится. Он мне так свирепо предан, что, если бы я сделал вид, что колеблюсь, он схватил бы меня за горло. Рассказать вам, как я убил его брата в лесах Колумбии? В другой раз: это довольно длинная история. О чем я всегда буду жалеть — это, что я не убил также и его. Тогда я мог это сделать без малейших хлопот. Теперь уже слишком поздно. Изрядный мерзавец, но иногда бывает очень полезен. Надеюсь, вы не будете все это записывать?
Шомберг совершенно растерялся от грубой беззастенчивости и презрительного тона «просто Джонса». С ним никогда еще так не говорили. Он молча покачал головой и удалился если не в полном смысле слова напуганный — хотя в действительности под его внушительной наружностью скрывалась трусливая натура-но, видимо, пораженный и недоумевающий.
Три недели спустя, спрятав выручку в несгораемый шкаф, украшавший своей стальной массой один из углов их спальни, Шомберг повернулся к жене и сказал, не глядя на нее:
— Я должен избавиться от этих двух господ! Так не может больше продолжаться.
Госпожа Шомберг была того же мнения с первого дня, но она уже давно научилась молчать. Сидя в своем ночном уборе, при свете свечи, она остерегалась издать хотя бы шепот, зная по опыту, что даже ее одобрение было бы сочтено дерзостью. Она следила глазами за Шомбергом, лихорадочно шагавшим по комнате в своей пижаме.
Он избегал смотреть в ее сторону, потому что в этом виде госпожа Шомберг, несомненно, являлась самой непривлекательной вещью в мире, вещью жалкой, несчастной, полинялой, одряхлевшей, разрушенной… И контраст с непрерывно преследовавшим его женским образом делал вид его супруги еще более тягостным для его эстетического чувства.
Шомберг шагал, злобствуя и ругаясь, чтобы придать себе мужество.
— Черт бы меня побрал! Мне следовало бы сейчас, сию минуту пойти к ним в комнату и сказать, чтобы они завтра чуть свет убирались вон, и он, и его секретарь. Я еще понимаю простую игру в карты, но сделать притон из моего табльдота… Кровь во мне кипит! Он приехал сюда, потому что какой-то негодяй в Маниле сказал, что я держу табльдот.
Он говорил все это не для того, чтобы поделиться мыслями с госпожой Шомберг, а потому, что надеялся, выкрикивая это громко, растравить свою ярость и придать себе мужества для разговора с «просто Джонсом».
— Бесстыдник! наглец! негодяй! — продолжал он. — Хотелось бы мне…
Он был вне себя; он бесился по-тевтонски, безобразным и тяжелым бешенством, так сильно отличающимся от живописной и живой ярости латинских рас. И, несмотря на нерешительные взгляды, которые он бросал по сторонам, его искаженные злобой черты вызвали у несчастной женщины, которую он тиранил столько лет, опасение за его драгоценную шкуру, так как несчастному созданию во всем мире больше не за что было зацепиться. Она знала его хорошо, но не совсем. Последнее, что женщина соглашается обнаружить в любимом человеке или в человеке, от которого она только зависит, — это трусость. И, робко сидя в своем углу, она отважилась сказать умоляющим голосом:
— Будь осторожен, Вильгельм! Вспомни о ножах и револьверах в их сундуках.
В благодарность за это тревожное предостережение Шомберг бросил в сторону этого трепещущего видения град ужасающих ругательств. В своей узкой рубашке, босая, она напоминала средневековую кающуюся, которую осыпали проклятиями за ее грехи. Эти орудия убийства, которых он, впрочем, никогда не видал собственными глазами, постоянно стояли перед мысленным взором Шомберга. Дней через десять после приезда постояльцев он стоял на веранде на страже, принимая величественные и беззаботные позы, покуда госпожа Шомберг, вооруженная связкой ключей, выбивая зубами дробь и окончательно поглупев от страха, «производила осмотр» багажа странных постояльцев. Этого пожелал ее ужасный Вильгельм.
Читать дальше