— Ольга Константиновна. Мне остался крест золотой, белый снег, а кровь будет.
— Борис Арнольдович, не надо.
— Нет, почему это? Вы помните Карлушу? Он был такой веселый. Он бы и теперь, если бы не…. Это хорошо, что все прошло. Мы будем обо всем говорить, начнем с самого начала.
— Нет, у меня нет начала, я не хочу ничего. У меня теперь одно и безнадежное…
— Совсем?
— Я, думаю, но, конечно, я надеюсь. Ему… ну он, совсем еще… в 7 классе…
— Военного?
— Нет, гимназии.
— Я не люблю такую погоду. Хотите кататься, я теперь часто катаюсь, но холодно. Вообще, я стала зябкой.
— Я к вам еще приду, если…
— Если?
— Если не…
— Как? Настоящая турчанка?
— Ну, конечно, конечно. Нет, я шучу. — Алеша улыбается.
— Я знаю, что вы шутите. — Боря опять в дамском. Закутан. Перила набережной тусклые и холодные.
— Должно быть, скоро будет таять.
— Да, скоро. Мне хочется вам сознаться во всем, во всем, я для этого вас вызвала. Теперь так: или все или ничего. Я не могу продолжать, как прежде. Я не совсем понятно говорю, может быть лучше написать?
— Нет, говорите.
— Я не турчанка.
— Я знаю, ведь вы…
— Да, да, но и не.
— Не?
— Вы поняли?
— Нет.
Боря кутается в манто. Совсем по-женски. Смотрит на снег, потом на вечернее небо и лицо бледное вдруг опечаливается.
— Почему вы так меняетесь, почему?
— Меняюсь? Потому что я не настоящий или «щая», как хотите.
— Это мучительно, я все-таки к вам привязан, вы задаете загадки. Мне холодно.
— Да, да об этом лучше написать.
Вот лицо Алеши: темные глаза, высокий лоб, волосы мягкие — все это дополнено любящим (очень сильно любящим) воображением. Это карточка, обыкновенная, матовая. На обратной стороне написано: «Милой турчанке — Бобби другу. А Карцев».
В Бориной комнате солнце, письменный стол завален учебниками и программами, программы испачканы карандашом и углы стерты. Трудно готовиться к экзаменам. Окно очень большое и солнце. Это так редко. И карточка на столе.
— Это ты так занимаешься.
— Ах, Вера, нельзя так, неожиданно?
— Покажи, новое увлечение?
— Нет, нет.
— Как хочешь. Мне не интересно.
— Верочка, не сердись. Я покажу, но… ты не так относишься, это слишком нежное чувство.
— Не надо. Не надо.
Пауза.
— Я заметила, что Павел Иринархович изменился.
— Как?
— Он всегда был спокойным. Даже слишком. Теперь — нет. Что-то произошло, должно быть.
— Я ничего не заметил. Я редко с ним говорю. Он какой-то холодный. Я не могу привыкнуть.
— Вот его карета.
— Он один?
— Вероятно.
— Верочка. Мне жаль, что у вас расстроилось.
— Ах. Глупости. Ты совсем ребенок. Я здорова, здорова совсем, и в этом я не виновата.
— Я не про здоровье.
— Ведь в этом все. Ты же не мог жениться на Ксении Эразмовне, например.
— Но Эдуард Францевич ведь…
— Ах, не будем говорить о нем. Он жалкий. Я тебе мешаю. Учись. Учись.
— Нет, нисколько. Слушай.
Верочка убегает так же быстро, как и вошла. Остался запах её духов и волос. «Верочка милая — думает Боря, — милая».
— Я совсем-совсем с большой просьбой к вам, и, главное, вы можете, через дядю, Борис Арнольдович. Это так страшно. — Кирилл раскрасневшийся, с глазами испуганными и нежными в Бориной комнате, где спокойно как — будто, где окно большое, солнце, и через стекло видна речка с плывущими льдинами.
— Кирюша успокойся. Я все, что могу…
— Борис Арнольдович! Милый. Это ужасно. Он арестован. — Кирюша опускается как-то безжизненно на кресло, и пружины от этого сильно вздрагивают.
И этот шум пружин неожиданный, и плач Кирюши больно отзывается в Борином сердце.
— Николай Архипович?
— Да, да и другие, но он, он, как могли его? — Кирюша плачет все сильнее, но сквозь рыдания говорит все понятно: и про дядюшку сенатора Павла Иринарховича, и про помощь его и влияние.
— Кирюша, это так трудно, трудно. Я с ним почти не вижусь, почти незнаком. Да, живу здесь в доме его, но ведь он особенный, с ним нельзя, просто невозможно говорить, он такой особенный.
— Оставить Николая Архиповича нельзя, нельзя. Это невозможно. Борис Арнольдович, вы должны.
И вдруг Боря чувствует на себе взгляд, особенный, жгучий и, кажется, что не Кирюша смотрит своими горестными и нежными глазами, а тот. И вся комната делается другой, маленькой, душной и невозможной. Надо выйти, надо что-то сделать, чтобы стало легче, светлее…
— Хорошо, хорошо, Кирюша, я сделаю.
— После всего этого вы не оттолкнете меня?
Читать дальше






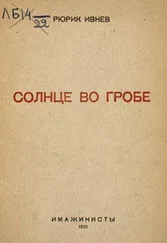
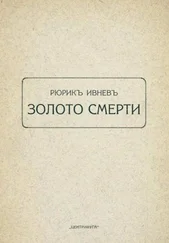



![Рюрик Ивнев - Кричащие часы [Фантастика Серебряного века. Том I]](/books/425256/ryurik-ivnev-krichachie-chasy-fantastika-serebryanogo-thumb.webp)