Еще минута и настало отрезвление. Поняв мишурную опасность, толпа постепенно успокаивалась, стало свободнее, перед бледным лицом Бори, внезапно побелевшим, горели недоумевающие вопрошающие глаза носильщика. Секунда нерешительности промелькнула, и Боря, инстинктивно защищая себя от неприятного и обидного положения, продолжал симулировать испуг и нервное напряжение.
— Бога ради, помогите, защитите, я так боюсь огня. — Он взял руку носильщика и, обратив на него умоляющие глаза, шептал: — Пожар! Пожар! Вы слышите! Я так боюсь.
— Не бойтесь, ничего уже нет, это воришка какой-нибудь крикнул, чтобы, пользуясь суматохой вещи понахватывать.
Леша Траферетов оказался рядом.
— Не нервничайте. Вы бледны как бумага. Где ваши вещи? Носильщик, найди сейчас же, корзину с котомкою коричневой. Скорее на извозчика. Черт знает! Помяли вещи. Кретины!
— Кто там?
— Это я, Траферетов.
— Войдите, Леша.
На кровати, с какой-то примочкой на голове лежал Боря. В единственное окно продолговатой, заставленной какой-то мебелью и бесчисленными этажерками с книгами комнаты, заходящее солнце бросало тусклые красноватые лучи.
— Странная у вас комната! Точно мебельный магазин.
— Лень было искать. Я первую попавшуюся взял. Чисто. Спокойно. Это главное. А вы где?
— Я недалеко. У сестры, двоюродная. Пока. Потом буду искать комнату.
(Пауза.)
— Ну, как вы себя чувствуете?
— Голова болит. Не спал.
— Можно мне, как доктору вас осмотреть?
Боря сделал протестующий жест.
— О, нет, нет. Сейчас не могу. Я не принимал ванны еще.
— Ну, так что ж?
— Нет, неприятно грязным…
— Но ведь я доктор.
— Ах, нет, мне неприятно, если вы будете меня когда-нибудь вспоминать и в таком виде.
— Дайте одеколон?
— Вот там, на этажерке. Здесь не душно? Ну, ничего, побрызгайте.
— Ей-Богу, вы странный, какой то.
— Ну, хорошо, странный, я это знаю сам. И что же?
(Пауза.)
— Да нет, ничего, я так.
— Вы можете сесть около меня?
— Могу.
— Будете слушать?
— Буду.
— Я очень несчастный.
— Опять?
— Вам это наскучило?
— Нет, но вы внушаете себе это…
— Слушайте дальше. Я к вам расположен так, как ни к кому. Я вас люблю очень.
Леша наклонил голову.
— Тронут.
— И вот я вас прошу не бросать меня. Я знаю, я скучный, я странный.
— Боже! Боже!
— Нет, нет, я знаю. Вы сами же сказали.
— Да, но я не говорил, что с вами скучно, наоборот.
— Ну, все равно. А впрочем, я устал. Вы понимаете, я вас люблю. Дайте мне вашу руку. Вот так я буду ее держать. Хорошо? Вы никогда не писали стихи?
— Нет.
— Жаль. Я вас познакомлю с поэтом одним. Он очень музыкально пишет, я люблю его стихи, и читает он их красиво, но я музыку люблю, а смысл не улавливаю. Но ему это говорить нельзя. Он обидится. Его стихи:
К волне моей, к волне моей приникнем
И будем мы, как каменный овал.
Смотрю в глаза. Зачем, зачем твой лик нем?
Зачем меня восторг околдовал?
— Вам нравится?
— Как вам сказать…
— Боже мой, конечно откровенно.
— Нет.
Длинные коридоры, из которых один освещен, другие совсем нет, постепенно наполнялись публикой. Молодежи, как всегда на литературных вечерах, было больше. Молодые лица, улыбки, еще свежие и юные. Восторженные взгляды, смех, шепот. Боря стоит в углу, у окна не освещенного совсем. О чем-то думает. Темные глаза печальны.
— Кто читает?
— Литвинов.
— Литвинов читает, скорей идемте, мы опоздаем.
— Еще не началось.
Толпа бросилась в залу. Коридоры опустели.
— Вы тоже здесь?
— Да.
— В штатском?
— Я с военной формой распростился. — Карл Константинович в штатском старом костюме, какой-то нескладный и неузнаваемый.
Борины глаза удивленно раскрываются.
— Совсем?
— Совсем.
— Почему это?
— Да так. Потом расскажу подробнее. История одна. Это грустно.
— Что?
— Да все. Однако, идемте, уже началось.
Я пою, и мне море вторит.
Я плыву, и волна горит.
Забываю последнее горе,
Забываю, что сердце таит.
И вокруг заходящие волны
И вокруг — печаль, испуг.
Я неясным восторгом полный
Целую пальцы рук…
И опять зеленая пена.
И вокруг — печаль моя.
Я люблю. Ты любишь. Измена.
Чья любовь? Моя? Твоя?
Вдруг резкий свист оглашает залу.
— Это безобразие.
— Глупо.
— Не прерывайте, не прерывайте.
Несколько человек из близких к Литвинову окружают эстраду и аплодисментами стараются заглушить свист и крик. В зале волнение. Звонок председательствующего жалобный и заглушаемый звуками голосов. Боря усиленно аплодирует, стоя у самой эстрады. Бледное, растерявшееся лицо Литвинова выражает беспомощность.
Читать дальше






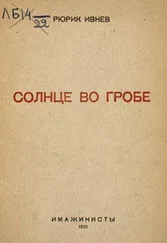
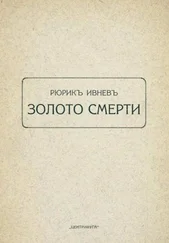



![Рюрик Ивнев - Кричащие часы [Фантастика Серебряного века. Том I]](/books/425256/ryurik-ivnev-krichachie-chasy-fantastika-serebryanogo-thumb.webp)