12
Я хотел бы дать читателю хотя бы приблизительное представление, чем тогда была эта книга, на страницах которой суммировались и складывались окончательные события той весны. Несказанный тревожащий ветер пролетал по сверкающей шеренге марок, по разубранной улице гербов и знамен, беззаветно развевая девизы и эмблемы, колышащиеся в затаившей дыхание тишине, в тени туч, что грозно выросла над горизонтом Потом внезапно на пустой улице появились в парадных одеяниях, с красными повязками на рукавах первые герольды, лоснящиеся от пота, исполненные сознания собственной миссии и всецело поглощенные ею. Взволнованные до глубины души, полные торжественной значительности, они в молчании подавали знаки, и вот уже улица темнела от приближающейся демонстрации, и во всех поперечных улицах чернели колонны, надвигающиеся под шум шагов тысяч и тысяч ног. То была гигантская манифестация стран, всеобщее первое мая, монстр-парад миров. Тысячами словно для присяги поднятых рук, флагов и знамен, тысячами голосов мир демонстрировал, что он не за Франца Иосифа, но за кого-то стократ, тысячекрат более великого. А надо всем колыхался светло-красный, почти розовый цвет, невыразимый, высвобождающий цвет энтузиазма. Из Сан-Доминго, из Сан-Сальвадора, из Флориды прибывали запыхавшиеся, восторженные делегации, все в малиновых костюмах, и в знак приветствия приподнимали котелки цвета черешни, из-под которых выпархивали по два, по три щебетливых щегла. Блистающий ветер счастливыми дуновениями и порывами усиливал сверкание труб, мягко и бессильно обмахивал края инструментов, которые роняли во все стороны тихие метелки электричества. Несмотря на многолюдье, несмотря на многотысячное шествие, все происходило в полном порядке, гигантский смотр совершался планомерно и в тишине. Бывают минуты, когда свисающие с балконов флаги, которые только что колыхались жарко и неудержимо, развевались в разреженном воздухе в багрово-красных судорогах, взлетали с бурным тихим трепетом в напрасном порыве энтузиазма, внезапно замирают, как по команде «смирно», и вся улица становится красной, яркой, исполненной молчаливой тревоги, меж тем как в потемневшей дали, в сумеречном воздухе внимательно отсчитываются глухие залпы салюта сорок девять разрывов.
Потом горизонт резко мрачнеет, как перед весенней грозой, только ярко сверкают инструменты оркестров, и в тишине слышен ропот темнеющего неба, шум далеких пространств, а из ближних садов плывет сосредоточенными зарядами аромат черемухи и беззащитно разряжается непередаваемо безмолвными взрывами.
13
И вот однажды в конце апреля был пасмурный теплый день, люди шли, глядя прямо перед собой в землю, неизменно в один и тот же квадратный метр влажной земли перед собой, и не чувствовали, как по сторонам шествуют мимо них деревья парка, раскинувшиеся черными ветвями, и на них в разных местах появляются трещинки сладких сочащихся ран.
Запутавшееся в черной ветвистой сети деревьев серое, душное небо ложилось на затылки людей — вихреобразно напластованное, бесформенно тяжелое и огромное, как перина. В теплой этой сырости люди выкарабкивались из-под него на четвереньках, словно хрущи, обнюхивающие чуткими усиками сладкую глину. Мир лежал глухой, развивался и рос куда-то вверх, где-то сзади и в глубине — благостно бессильный — и плыл. Временами он замедлял течение и что-то смутно припоминал, ветвился деревьями, ячеился густой поблескивающей сетью птичьего щебета, брошенной на этот серый день, и шел вглубь, в подземное змеение корней, в слепое пульсирование червей и гусениц, в глухое помрачение чернозема и глины.
И под этой бесформенной громадностью люди оседали, оглушенные, без единой мысли в голове, оседали, спрятав лица в ладони, сгорбленные висели на скамейках парков, держа на коленях лоскуты газет, текст с которых вытек в огромную, серую бездумность дня, неловко висели в еще вчерашних позах и не замечали, как из уголков рта у них ползет слюна.
Быть может, их оглушали густые погремушки чириканья, неутомимые маковки, сыплющие серую дробь, от которой мерцал воздух. Они ходили осовелые под этим свинцовым градом и объяснялись жестами под щедрым этим ливнем, а то и просто безропотно молчали.
Но когда часов около одиннадцати в какой-то точке пространства сквозь мощное спекшееся тело туч бледным ростком проклюнулось солнце, внезапно в ветвистых корзинах деревьев часто засветились почки, и серая вуаль чириканья медленно, словно бледно-золотистая сетка, отделилась от лица дня, который приоткрыл глаза. И то была весна.
Читать дальше
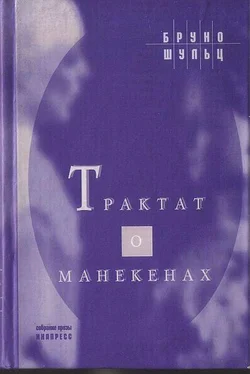





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



