Наконец все они прошли, и в комнате воцарилась тишина. Я снова стал рисовать, утопая в своих листах, с которых струился блеск. Окно было открыто, и на его карнизе трепетали на весеннем ветру горлицы. Как бы испуганные и исполненные полета, они наклоняли головы и демонстрировали профили с круглым, стеклянным глазом. Дни под конец стали мягкими, опаловыми и лучезарными, а то вдруг перламутровыми и полными затуманенной сладостности.
Наступили пасхальные праздники, и родители уехали на неделю к моей замужней сестре. Меня оставили одного в квартире на произвол моих вдохновений. Аделя каждый день приносила мне завтраки, обеды, ужины. Когда она появлялась на пороге, празднично одетая, источая из своих тюлей и фуляров аромат весны, я не замечал ее присутствия.
Через открытое окошко втекали ласковые дуновения, наполняя комнату отблеском дальних пейзажей. С минуту навеянные цвета ясных далей еще удерживались в воздухе, но вскоре расплывались, развеивались в голубоватом дне, в ласковости и волнении. Половодье образов несколько успокоилось, потоп видений умиротворился и утих.
Я сидел на полу. Вокруг лежали мелки и пуговки акварели, Господни цвета, дышащая свежестью лазурь, зелень, забредшая до самого предела изумления. А когда я брал в руки красный мелок, в просветленном мире звучали фанфары счастливого красного цвета, по всем балконам плыли волны красных флагов, и дома выстраивались вдоль улицы торжественной шеренгой. Колонны городских пожарников в малиновых мундирах проходили парадом по светлым счастливым дорогам, и мужчины, приветствуя друг друга, приподнимали котелки цвета черешни. Черешневая сладость, черешневый щебет щеглов наполняли воздух, насыщенный лавандой и ласковым блеском.
Когда же я брался за синий цвет, по улицам по всем окнам пробегал отблеск кобальтовой весны, одна за другой со стуком открывались рамы, полные синевы и небесного огня, занавески взметывались, как по сигналу тревоги, и радостный легкий сквозняк пробегал вдоль их шеренги среди колышащегося муслина и олеандров на пустых балконах, как будто на другом конце этой длинной светлой аллеи появился кто-то далекий и приближался — лучистый, предшествуемый вестью, предчувствием, благовещаемый полетом ласточек, светозарными грамотами, разбрасываемыми на каждой миле.
3
В пасхальные праздники, в конце марта либо начале апреля, Шлёма, сына Товия, выпускали из тюрьмы, куда его сажали на зиму после летних и осенних похождений и безумств. И вот в один из дней той весны я в окошко увидел, как он выходит от парикмахера, который в одном лице являл собой городского цирюльника и костоправа; с изысканностью, приобретенной в тюремных стенах, Шлёма открыл сверкающую стеклянную дверь парикмахерской и спустился по трем деревянным ступенькам, посвежевший и помолодевший, с аккуратно подстриженной головой, в куцеватом сюртучке и высоко подтянутых клетчатых панталонах, худощавый и моложавый, несмотря на свои сорок лет.
Площадь Св. Троицы в это время была пустая и чистая. После весенней слякоти и грязи, смытых потом проливными дождями, мостовая лежала отмытая, высушенная за много дней тихой и ясной погоды, дней уже длинных и, быть может, слишком обширных для ранней этой поры, дней, затягивающихся сверх меры, особенно вечерами, когда сумерки, еще пустые в своей глубине, тщетные и бесплодные в безмерном своем ожидании, длятся и длятся без конца. Когда Шлёма закрыл за собой стеклянную дверь парикмахерской, небо тотчас же вошло в нее, как во все маленькие оконца этого одноэтажного дома, открытого чистой глубине тенистого небосклона.
Сойдя с крыльца, Шлёма оказался совсем один на краю большой пустой раковины площади, через которую проплывала синева бессолнечного неба Эта широкая чистая площадь лежала в тот день как стеклянный сосуд, как новый, не початый год. Шлёма стоял на его краю, серый и угасший, и не смел сломать решением идеальную округлость неиспользованного дня.
Лишь раз в году, в день выхода из тюрьмы, Шлёма чувствовал себя таким чистым, ничем не обремененным и новым. День принимал его в себя, омытого от грехов, обновленного, примирившегося с миром, со вздохом открывал перед ним чистые круги своих горизонтов, увенчанные тишайшей красотой.
Он не торопился. Стоял на краешке дня и не смел переступить, перечеркнуть своей молодой, легкой, чуть припадающей походкой эту мягко закругляющуюся раковину пополуденной поры.
Над городом лежала прозрачная тень. Молчание третьего часа пополудни извлекало из домов чистую белизну мела и раскладывало ее, как колоду карт, вокруг площади. Обделив его в одном круге, оно уже начинало новый, черпая запасы белизны из высокого барочного фасада церкви Св. Троицы, которая, как слетающая с неба огромная рубашка Бога, вся в складках пилястров, ризалитов и фрамуг, распираемая пафосом волют и архивольт, поспешно приводила на себе в порядок это гигантское взволнованное одеяние.
Читать дальше
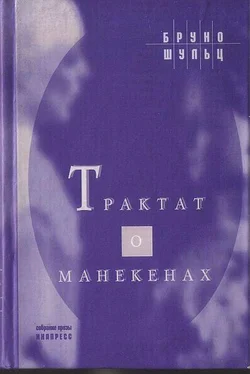





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



