Никто нас не удерживает. Через коридоры книг, мимо стеллажей с журналами и открытками мы выходим из магазина, и вот мы уже на самой высокой точке Крокодильей улицы, откуда она видна почти на всем протяжении вплоть до недостроенного вокзального здания. День, как обычно в этом районе, пасмурен, и временами все вокруг кажется фотографией из иллюстрированной газеты — так серы, так плоски и дома, и люди, и экипажи. Здешняя реальность тонка, как бумага, и каждая трещинка выдает ее имитативность. Порой создается впечатление, что только на крошечном клочке пространства перед нашими глазами существует подчеркнуто тщательно вырисованная картина столичного бульвара, а по бокам весь этот сымпровизированный маскарад уже расклеивается, рассыпается и, не способный играть свою роль, разваливается у нас за спиной кусками гипса и клочьями пакли, превращается в свалку бутафории какого-то громадного опустелого театра. Напряженность позы, искусственная значительность маски, иронический пафос дрожит на этом тонком эпидермисе. Но мы далеки от намерения разоблачать обманность разыгранного спектакля. Напротив, вопреки собственному желанию, мы все-таки чувствуем, что поддались дешевому очарованию квартала. Тем более что в картине города ощущается некоторая самопародия. Маленькие одноэтажные домишки окраины перемежаются многоэтажными каменными зданиями, выстроенными как бы из картона и представляющими собой конгломерат вывесок, слепых конторских окон, стеклянисто-серых витрин, реклам и номеров. Вдоль домов рекою плывет толпа. Улица широка, как столичный бульвар, но, словно деревенская площадь, покрыта убитой глиной, заросла травой, вся в выбоинах и лужах. Уличное движение — это гордость района, местные жители говорят о нем с восхищением, и глаза у них при этом многозначительно блестят. Здешняя серая, безликая толпа чрезвычайно захвачена своей ролью и усердно пытается создать видимость большого города. И все-таки, невзирая на ее старательность и озабоченность, создается ощущение полоумного, однообразного, бесцельного кружения, какого-то сонного хоровода марионеток. Атмосфера поразительной никчемности пронизывает весь этот спектакль. Монотонно плывет толпа, и — странное дело — она все время видится как-то нерезко, фигуры проплывают в бессвязной спокойной суматохе и никогда не бывают четко очерченными. Лишь иногда из многоголовой сутолоки удается выхватить темный, живой взгляд, чей-то черный котелок, напяленный на глаза, лицо, разорванное улыбкой, с полуоткрытым, только что говорившим ртом, ногу, поднятую, чтобы шагнуть, да так навсегда и застывшую.
Особенностью квартала являются дрожки, которые сами собой, без извозчиков разъезжают по улицам. И не потому что извозчиков здесь нет; просто, смешавшись с толпой и занимаясь другими делами, они не следят за своими дрожками. В этом районе иллюзорности и пустых жестов не придают большого значения цели поездки, и пассажиры с легкомыслием, которым отмечен весь уклад жизни квартала, доверяются блуждающим экипажам. Нередко можно видеть, как на особо опасных поворотах они, высунувшись из дряхлых колясок, дергают вожжи, с трудом стараясь разъехаться.
Имеются здесь и трамваи. Их наличие — величайший триумф честолюбивых отцов города. Но вид вагонов, сделанных из папье-маше, с покоробленными, помятыми от многолетней эксплуатации стенами вызывает жалость. Часто у них недостает передней стенки, так что в проем видны пассажиры, с огромным достоинством восседающие на скамьях. Но, пожалуй, самое удивительное на Крокодильей улице — это железнодорожное движение.
Иногда, чаще всего в конце недели, то днем, то вечером можно видеть на углу толпу, собравшуюся в ожидании поезда. Никто в ней никогда не знает, где поезд остановится и придет ли вообще; зачастую бывает, что люди стоят в разных местах, так и не придя к согласию в споре о месте его остановки. Застыв черными молчаливыми рядами вдоль едва намеченных рельсов, они долго и терпеливо ожидают; все лица одинаково повернуты в профиль, похожи на бледные бумажные маски, на фантастические вырезные силуэты, изображающие внимательное ожидание. И вот наконец поезд приближается, вот он уже выехал из боковой улочки, откуда его никто не ждал, низенький, змеистый, с маленьким посапывающим, приземистым локомотивом. Он въезжает в черную очередь, и улица темнеет от вереницы вагонов, с которых сеется угольная пыль. В быстро опускающихся зимних сумерках темное сопение локомотива и дуновение странной и грустной значительности, приглушенная поспешность и нервозность на мгновение превращают улицу в вокзал.
Читать дальше
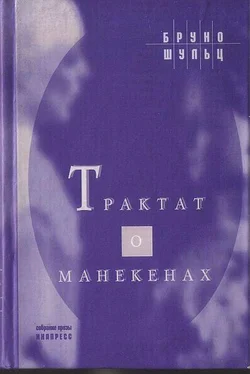





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



