Не зажигая света, Аделя ложится в смятую, переверченную с прошлой ночи постель, и стоит ей прикрыть глаза, как тут же начинается погоня по всем этажам и всем квартирам дома.
Только для непосвященных летняя ночь — это отдых и забвение. Едва завершаются дневные дела и натруженный мозг жаждет заснуть и забыть, как начинается беспорядочная кутерьма и запутанная безграничная суматоха июльской ночи. Все квартиры в доме, все комнаты и альковы полны гомона, передвижений, кто-то постоянно входит и выходит. На всех окнах стоят настольные лампы с абажурами, даже коридоры ярко освещены, непрестанно открываются и закрываются двери. Единый, огромный, беспорядочный и полуироничный разговор путается и ветвится среди непрекращающихся недоразумений по всем сотам этого улья. На втором этаже не понимают, что нужно тем, с первого, и шлют гонцов с точными наставлениями. По всем квартирам, по лестнице вверх, по лестнице вниз, несутся курьеры, по дороге забывают инструкции, их опять и опять отзывают, чтобы поручить новые задания. И вечно что-то можно уточнить, вечно вопрос остается не до конца выясненным, и вся это круговерть, сопровождаемая смехом и шутками, так ни к чему и не приводит.
И лишь у боковых комнат, не втянутых в этот безмерный балаган ночи, есть свое обособленное время, отмеряемое тиканьем часов, монологами тишины, глубоким дыханием спящих. Там, раскинувшись, спят набухшие молоком кормилицы, спят, жадно присосавшись к лону ночи, с пылающими в экстазе ланитами, а младенцы с закрытыми глазами блуждают в их снах, ласково блуждают, как вынюхивающие зверьки, по голубоватой карте жилок на белых равнинах грудей, нежно ползают, разыскивая незрячими мордашками теплую прореху, вход в этот глубокий сон, и наконец находят чуткими губами сиську сна, долгожданный сосок, полный сладостного забвения.
Те же, что в своих постелях уловили сон, уже не отпускают его и борются с ним, как с ангелом, который пытается вырваться, покуда не поборют его и не придавят к постели, а потом храпят попеременно с ним, словно ругаются и гневно поминают друг другу историю их обоюдной ненависти. Когда же эти обиды и укоры умиротворяются и смолкают, погони рассеиваются и рассыпаются по углам, а комната за комнатой впадают в тишину и забвение, входит приказчик Леон; ощупью, медленно, держа в руках сапоги, он поднимается по лестнице, тычет ключом, ища в темноте замочную скважину. Каждую ночь он возвращается из лупанария — глаза его налиты кровью, тело сотрясается от икоты, а из приоткрытого рта тянется ниточка слюны.
В комнате пана Иакова горит лампа, а сам он, сгорбившись над столом, пишет письмо Христиану Сейплю и Сыновьям, прядильные и ткацкие машины, многостраничное длинное письмо. На полу валяется уже множество исписанных листов, но до конца еще далеко. Ежеминутно он вскакивает из-за стола и бегает по комнате, запустив руки во вздыбленные волосы, и когда он так кружит, то, случается, взбегает на стену и летит по обоям, словно огромный непонятный комар, бредово стукаясь о стенные арабески, а потом вновь сбегает на пол, продолжая свое вдохновенное кружение.
Аделя спит глубоким сном, губы ее приоткрыты, лицо кажется удлинившимся и отсутствующим, однако ее опущенные веки прозрачны, и ночь пишет на их тонком пергаменте свое обетование, полутекст, полукартинки, в котором полно вычеркиваний, поправок и каракулей.
Эдя стоит в своей комнате, голый до пояса, и упражняется с гирями. Ему необходимо много силы, вдвое больше силы в плечах, которые заменяют недействующие ноги, и потому он упорно и тайно упражняется ночами напролет.
Аделя отплывает вспять, по-за себя, в нети и поэтому не может закричать, позвать, воспрепятствовать Эде влезть в окно.
Эдя вылезает на галерею без костылей, и Аделя со страхом смотрит, смогут ли ноги удержать его. Но Эдя не пытается идти.
Словно большая белая собака, он приближается по гудящим доскам галереи на четвереньках, большими шаркающими прыжками, и вот он уже у окошка Адели. Каждую ночь он прижимается бледным расплывшимся лицом, искаженным страдальческой гримасой, к сверкающим от лунного света стеклам и что-то плаксиво, настоятельно говорит, рассказывает стенающим голосом, что у него отнимают костыли и запирают их на ночь в шкаф, отчего ему приходится бегать по ночам на четырех, точно собаке.
Однако Аделя недвижна, она полностью отдалась глубинному ритму сна, что проплывает сквозь нее. У нее нет сил даже на то, чтобы подтянуть одеяло и прикрыть обнаженные бедра, и она ничего не может поделать с тем, что по ее телу проходят клопы, вереницы и колонны клопов. Эти легкие, тончайшие листки-туловища пробираются по ней так осторожно, что она даже не ощущает ни малейшей щекотки. Плоские мешочки для крови, рыжие мехи под кровь, безглазые и безликие, они сейчас маршируют целыми кланами — идет великое переселение народов, разделенных на поколения и племена. Сотнями тысяч они бегут от ног к голове, становясь все больше — как крупные ночные бабочки, как плоские кошельки, как большие красные безголовые вампиры, легкие и бумажные, на ножках тоньше паутинок.
Читать дальше
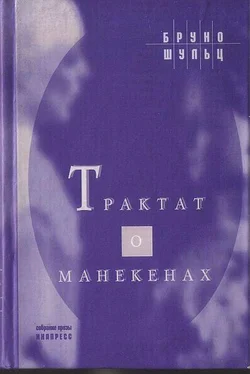





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



