Однако то, чего удалось добиться в одной газете, не вышло в другой. Новая газета «Народни глас» обрушилась в своей местной хронике на всех военных спекулянтов, вроде Рафо Конфорти и ему подобных, помянув мимоходом, но на этот раз открыто, и имя Райки Радакович. К ней присоединилась и социал-демократическая «Слобода», снова начавшая выходить. Она писала о «ростовщических процентах», «делах, которые не выносят света», «бездушных пауках, врагах народа и общества». Авторы статей требовали от правительства создания специальной комиссии, которая проверила бы деятельность и прибыли военных спекулянтов, и высказывали надежду, что общество навсегда изгонит из своей среды этих злостных и недостойных членов, невзирая на их положение и родственные связи.
Подобные угрозы выглядели в то время серьезными и вполне реальными; их читали, пересказывали и обсуждали по всему городу, среди родных и знакомых, везде, кроме дома Райки.
Ни с кем не встречаясь, она не могла толком знать, что думают и говорят о ней люди. Истина открывалась ей лишь изредка и случайно. Однажды осенью она внезапно проснулась с ощущением удушья — сердце, казалось, застряло в горле. (В последнее время такое бывало с ней все чаще.) Она вскочила, распахнула окно, чтоб как можно скорей и как можно глубже вдохнуть влажный ночной воздух. Стоя у открытого окна, задыхающаяся, в холодном поту, она услышала, как на улице под ее окном громко переговариваются пьяные. Они шли по набережной с криками, бранью и смехом. Двое из них отстали и подошли к ее дому. Икая и ругаясь, они поливали стену под самым ее окном. Незамеченная, она прислушивалась к их несвязной пьяной беседе.
— Холодно, — жаловался первый пьяница, — и не удивительно. Башмаки каши просят. Вот уже Михайлов день, а у меня еще нет зимнего пальто, и не знаю, когда будет.
— Все ракия чертова!
— Нет, браток! Вот те крест, нет. Не будь праздника, и сегодня бы не пригубил.
Один из пьяных отошел от стены и, застегиваясь, долго и тупо оглядывался.
— Слушай, ведь это дом Райки Радакович!
Другой, все еще стоя у стены, обозвал ее гадким словом и безобразно выругался. Барышня никогда не слыхала подобного ругательства и даже не представляла себе, что такое может существовать. То было одно из новых ругательств, в которых земля и небо соединялись в едином отвратительном помышлении.
— Она, говорят, деньги при швабах огребала, во время войны.
— И до войны тоже. Она уж сколько лет дает деньги в рост. Я слышал, как в трактире люди о ней толковали. Другого такого ростовщика и процентщика, говорят, во всей Боснии не найти. Все делает втайне, незаметно, и все вроде бы честно и по закону. Бестия, говорю тебе, форменная бестия. Ни разу никого не пожалела. Ни о боге, ни о душе не думает. Знай себе денежку к денежке складывает, а никому от них никакой радости. За грош удавится!
— Такую убить — доброе дело сделать.
— Убить мало. Я бы с этой стервой разделался так, как в песне поется: вывел бы ее на перекресток, облил дегтем и поджег. Чтоб как свеча горела. Как свеча!
Продолжая сыпать ругательствами, они пошли, спотыкаясь, догонять свою компанию, звавшую их из темноты.
Барышня быстро закрыла окно и легла. Она примерно знала, что думают о ней родственники и так называемые сливки общества, но сейчас она собственными ушами услышала мнение народа, голытьбы, людей, которые, быть может, ни разу в жизни ее не видели. Она чувствовала вокруг себя плотное и непробиваемое кольцо ненависти, непрестанно сужающееся. Встревоженная, позабыв о сне, она думала, куда бежать, где укрыться от этих людей, у которых нет даже зимнего пальто, и они согреваются ненавистью и ракией, но у которых есть время считать чужие доходы и готовить для других деготь и самые ужасные способы умерщвления.
В эту зиму Барышня впервые перестала ходить по воскресеньям на кладбище. Она сидела дома и думала о могиле отца, но выйти на улицу не решалась. Боязнь людей пересиливала все остальное. Она, которая никогда не считалась с людьми и попросту их не замечала, теперь дрожала от страха при одной мысли о прохожих, об их взглядах и попреках. Она перестала ходить в лавку. О делах и думать было нечего. Все двери были для нее закрыты. И Весо ей советовал некоторое время не попадаться людям на глаза.
Нескончаемо тянулись тяжелые месяцы зимы, когда даже от самой близкой родни она вынуждена была прятаться в своей комнате, когда возмущение против нее было настолько сильным, что ей становилось стыдно, хотя она и не знала, чего стыдиться, потому что сознание вины ни на мгновение не потревожило ее совесть.
Читать дальше


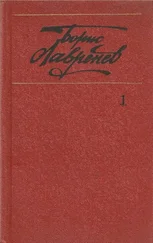
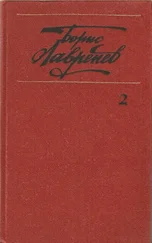
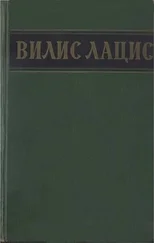



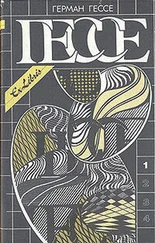
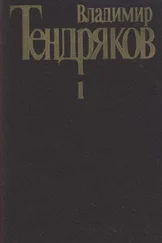
![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-thumb.webp)
![Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений - Пьесы. Роман. Эссе]](/books/422894/ezhen-ionesko-mezhdu-zhiznyu-i-snovideniem-sobranie-thumb.webp)
