Людям, подобным Барышне, мир должен часто представляться кромешным адом. Нечувствительная к большей части общественных законов, нравственных устоев и движений человеческой души, неспособная даже заметить их, а не то что понять их закономерность и их медленное, но неотвратимое воздействие на ход событий, она в самом деле не могла уловить причинной связи между тем, что происходило с ней сейчас, и тем, что она делала, видела и слышала в 1914-м и 1915 годах. И это было самым тяжким в ее теперешних муках. Она не понимала, что насилие и несправедливость вызывают мщение, и что месть слепа, и что те, на кого она обрушивается, всегда воспринимают ее как самую черную несправедливость, равно как не понимала и того, что к самому справедливому возмездию присоединяются зависть и неизбывное людское злорадство. Она вообще не имела понятия о насилии, о несправедливости, о каре и мщении, но зато ясно видела, что находится на стороне, которая преследуется и терпит убытки. Она в самом деле терпела убытки, и каждый день угрожал ей новыми и все более крупными. Она не осмеливалась предъявлять иски, а если бы и осмелилась, ничего бы из этого не получилось. Дела не двигались, суды пустовали, банки, по существу, не работали, сроки платежей не соблюдались, ценные бумаги лежали мертвым грузом. Со всех сторон у нее требовали пожертвований, долгов же никто не платил, должники смеялись в глаза кредиторам и делали новые долги, словно завтра — светопреставление. А газеты писали о налогах на военные прибыли, об экспроприации имущества, о больших и малых планах, по которым у имущих предполагалось отнять миллиарды и передать их неимущим. Барышне казалось, что целые страны и народы решили закончить жизнь в неистовом кутеже, решили есть, пить, безумствовать и растратить все, до последнего гроша в кармане последнего человека. Все оборачивалось против нее.
В тихий октябрьский день ей было суждено собственными глазами увидеть окончательную гибель Рафо. Однажды утром, избегая шумных, и радостно возбужденных центральных улиц, она забрела на Ферхадию. Перед бывшей лавкой Рафо толпился народ, раздавались громкие возгласы, взрывы оглушительного хохота. Боязливо осмотревшись, она увидела за прилавком Рафо. Мокрыми и грязными руками он перебирал какие-то гнилые овощи. От него остались кожа да кости, лицо его пожелтело и потемнело, одет он был грязно и неряшливо, без галстука, с непокрытой головой. Рафо испуганно вращал глазами и без умолку говорил, но что — разобрать было невозможно из-за непрестанных выкриков и громкого смеха толпы. Лишь когда он повышал голос, слышались отдельные слова:
— Вот, пожалуйста, совершенно бесплатно!.. Должен же народ есть… Я-то знаю, это другие не знают… Должен есть… Вот…
А народ, словно бы забыв о голоде, смеялся над безумцем, глядя на него с тем холодным любопытством, с каким люди, стоит им оказаться в толпе, смотрят на самые грустные сцены.
Одни держались насмешливо и грубо.
— Неси-ка это домой, газда Рафо, и ешь сам.
— Это что, покойница Австрия оставила тебе в наследство?
— Нагреб столько миллионов, а народ кормишь отбросами?
Другие были настроены благодушно и воспринимали все юмористически. Говорили ему, что он тертый калач и что, наверное, он думает и на этом сделать хороший гешефт. А Рафо Конфорти, как, бывало, много лет назад, прижимал руку к сердцу, клялся, нахваливал товар, спешил ответить на каждое замечание и плаксиво уверял, что единственная его забота — чтоб люди не голодали. Только тогда он был здоров, весел и подвижен, как юла, теперь же язык у него беспомощно заплетался, слова путались, а жесты были беспорядочны и неосмысленны.
Барышня отвернулась и поспешила прочь, не желая смотреть на мучения человека, которого можно было бы назвать ее другом, существуй в ее голове такое понятие.
В тот же день Рафо отвели в сумасшедший дом.
Дни и недели проходили, а волнения и радостная суматоха в городе не ослабевали. Напротив, жизнь, казалось, должна была измениться в корне. В Сараево вступили первые части сербской армии. Парады и празднества, банкеты и благодарственные молебны следовали один за другим; прибывали депутации, открывались новые газеты, менялись названия улиц и учреждений. Барышня понимала, что дело приняло серьезный оборот.
С нового года начала выходить газета «Српска застава». Свою главную задачу эта ультранационалистическая газета видела в том, чтоб осудить и заклеймить всех тех, кто во время войны «запятнал честь народа» и предал его интересы. Под специальной рубрикой: «Во имя порядка, справедливости и мира мы требуем…» — газета помещала разгромные статьи об отдельных людях и об учреждениях разного рода. В одной из заметок содержался прозрачный намек на Барышню, хотя имя ее пока названо не было. Один ее родич, близко знакомый с редактором газеты, пошел к нему и добился прекращения дальнейших нападок.
Читать дальше


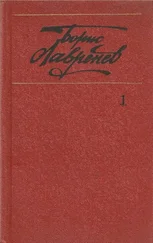
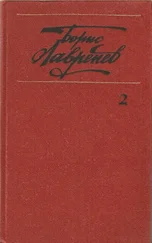
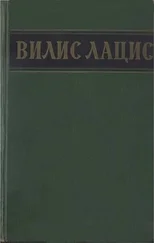



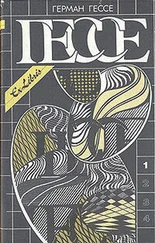
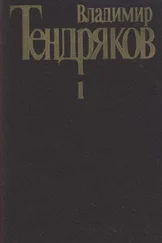
![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-thumb.webp)
![Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений - Пьесы. Роман. Эссе]](/books/422894/ezhen-ionesko-mezhdu-zhiznyu-i-snovideniem-sobranie-thumb.webp)
