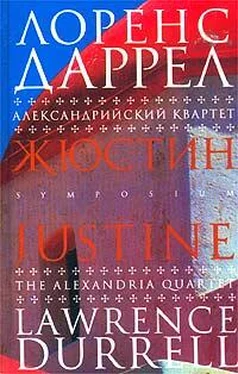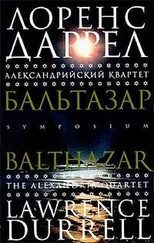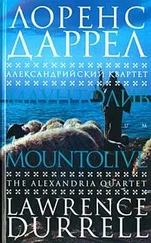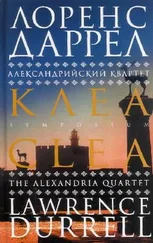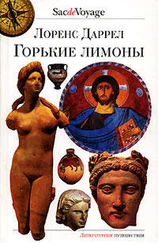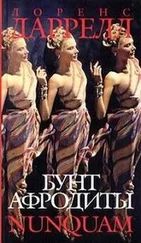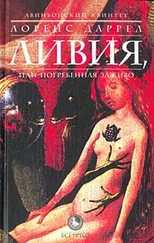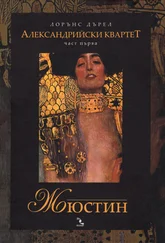Когда мы прибываем на место, уже темнеет. У берега визжит и поскуливает старый гидроплан, он ждет нас. Задние сиденья завалены приманками. Нессим цепляет к двум длинноствольным ружьям треноги, прежде чем сесть с нами вместе в плоскодонную лодку с низкими бортами и тронуться в путь сквозь заросшие камышом протоки к одинокому охотничьему домику где-то там, на воде, где мы проведем ночь. Горизонт обрезан близкими кулисами камышей, и шумная наша посудина несется вдоль по быстро темнеющей протоке, распугивая ревом моторов местную живность; протока становится все уже, камыш — выше, и торчат из илистых кочек пучки осоки, там земля. Раз или два мы выныриваем на широкий водный простор — ненадолго — и ловим взглядом суматоху поднимающихся на крыло птиц: утки судорожно бьют крыльями, вспахивая перепончатыми лапами зеркальную гладь воды. Совсем неподалеку суетятся бакланы, длинноносые, сутулые, похожие на стайку эстетов в антикварной лавке. Повсюду, теперь уже со всех сторон, отходят ко сну неисчислимые птичьи стаи. Когда стихают моторы, тишина взрывается вдруг утиным гомоном.
Легкий, пахнущий зеленью ветер вспыхивает в воздухе и разбегается рябью по воде вокруг маленькой камышовой хижины на сваях. На помосте перед ней сидят арабы (они будут заряжать нам ружья и приносить дичь) и ждут нас. Как-то вдруг стемнело, и голоса в лодке звучат неестественно громко, резко и весело. Рожи у завтрашних наших помощников самые бандитские. Они скачут с кочки на кочку, подоткнув длинные свои галабеах, босые, нечувствительные к холоду. Они черны и огромны, словно выточены из ночи. Они втаскивают нас на помост и прыгают в лодку, чтобы набрать по охапке приманок, а мы бредем в комнаты, где уже горят парафиновые лампы. Из крохотной кухоньки просачиваются запахи ужина, и мы благосклонно им внимаем, освобождаясь от груза ружей и патронташей, скидывая сапоги. Те, кто поазартнее, садятся за триктрак и заводят бесконечные охотничьи байки, самый восхитительный и захватывающий мужской разговор на свете. Ралли натирает свиным салом старые, чиненые-перечиненые сапоги. Ужин удался на славу, а красное вино капнуло каплю неги в общее радужное настроение.
К девяти тем не менее все уже готовы ко сну; Нессим ходит снаружи, в кромешной тьме, и проводит последний инструктаж, затем ставит старый ржавый будильник на три утра. Один лишь Каподистриа не выказывает желания спать. Он сидит отрешенно, потягивает вино и дымит сигарой. Мы перебрасываемся несколькими пустячными фразами; внезапно он резко меняет тему и начинает рассуждать о третьем томе Персуордена (он только что поступил в продажу) емко и дельно. «Что удивительно, — замечает Да Капо, — он маскирует под банальности целую серию кардинальных духовных проблем — и иллюстрирует их, на каждую по персонажу. Я как раз думал над его Парром, сенсуалистом. Очень уж похож на меня. Его апология чувственности фантастически хороша — помните, он говорит, что люди видят в нас обычно лишь презрения достойное гусарство, движущее нами, но упускают возможность копнуть чуть глубже и обнаружить жажду красоты. Незнакомое лицо способно порой перевернуть тебе душу — хочется просто съесть его, черточку за черточкой. Укладываешь в постель тело, довесок к лицу, и тщетно ищешь в нем забвения, отдыха. Что поделаешь, такими уж мы родились». Он тяжко вздыхает и погружается в воспоминания об Александрии, какой она была прежде. Он говорит, и мягкая улыбка смирения трогает его губы: давно ушедшие дни, он сам — подросток, затем молодой мужчина — движется в потоке времени свободно и безмятежно. «Я так и не понял до конца, что за человек был мой отец. Скептик, насмешник, хотя, может быть, он просто прятал таким образом собственную слабость. Фраза заурядного человека не в состоянии обратить на себя ваше внимание, тем паче претендовать на место в вашей памяти. Как-то раз мы говорили о женитьбе, и он сказал: „В браке узаконено отчаяние“, — и еще: „Каждый поцелуй есть преодоленное отвращение“. Я тогда понял: у него весьма занятные представления о жизни, целая философия, но вмешалось сумасшествие, и все, что у меня осталось в память о нем, — несколько фраз и забавных историй. Хотел бы я оставить после себя хотя бы столько».
Я лежу на узкой койке, гляжу в темноту и думаю о его словах; вокруг лишь тишина и тьма, и только снаружи — тихий быстрый голос Нессима, отрывистые фразы — он говорит с арабами. Слов я не слышу. Каподистриа сидит еще несколько минут на месте, докуривает сигару, затем грузно перебирается на койку у окна. Остальные давно спят, если судить по раскатистому храпу Ралли. Страх мой снова сменяется смирением; на грани яви и сна я думаю о Жюстин, один лишь миг, покуда память о ней не соскальзывает в сумеречный покой забвения, проницаемый лишь для отдаленных сонных голосов и торопливых вздохов воды под настилом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу