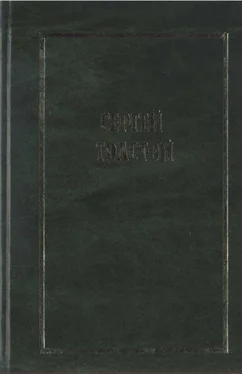Почему-то не раз после вспоминалось мне это осеннее утро и то, как мама после обедни прошла со мной на кладбище и долго молилась у черного камня — памятника на могиле своего отца, а сверху летели желтые листья, и то, как мальчишки в деревне, когда мы проезжали обратно, бросали камнями в наш шарабан.
Никогда раньше такого не случалось. А теперь все одно к одному, вот как с этой кургузой «атакой», в которой все есть, кроме самой возможности осуществления Не постигнув и тысячной доли окружающих противоречий, я уже как-то от них устаю. В чем тут дело? Вот мальчишки швыряют камнями, мужики вырубают наш лес — а мы, лишь покачав головами, мимо проходим (мы — это старшие), будто и впрямь в чем-нибудь виноваты; и дядя Леша, которому важнее всего генерал-адъютант Максимович, и дядя Володя, который что-то там путает в Думе, и неведомый Родзянко [54], и Милюков, которые говорят как будто бы такие искренние и хорошие слова о России, — все плохо. На днях пришло известие — убили Распутина. Того самого, который, все говорили, столько зла причинил царю и России. Кажется, хорошо? А отец, вовсе не мягкотелый и, обычно, сторонник крутых и решительных мер, лишь неодобрительно покачал головой и промолвил: «Доехали… Кажется, дальше уж некуда!..»
В чем же дело? Почему, что бы «там» ни случилось, все всегда недовольны? Но как будто у всех кругом развязаны языки и связаны руки. Если всюду делается что-то не то, почему не начать делать «то»? Почему нельзя ни во что вмешиваться? Что же надо было делать с Распутиным, если так плох он, а убивать его все-таки было нельзя?
Я смотрю не на елку — мою последнюю елку в этих стенах, а на ее отраженье в замерзшем окне. Мой маленький мир всяческого опыта, восприятий, познаний, только было начав расширяться, вдруг чем-то сдавлен. Там, за окном, подступает что-то неясное, поскрипывает зубами, враждебно высматривает со скошенной набок свирепой улыбкой: «А, мол, все еще тут… И елку зажгли… Погодите ужо…» Но что там? Мальчишки с камнями? Или что-то такое, чего и сам папа боится? Впервые, на мгновение, на одно только мгновение сверкает с мучительной болью мысль, что отец, может, и сам в чем-то неправ. Я гоню эту мысль. Если она останется, я с ней не справлюсь. Это слишком страшно. Пусть все будут неправы, но только не он. Но мне непонятно так многое, что становится одиноко и не по себе. Если бы он сам, с его решительностью, поехал да и убил Распутина, а заодно, может, дядю Володю, чтобы не путал, это было бы страшно и жалко, конечно, но как-то понятнее. Уж тут ничего не поделаешь, если надо, чтоб все, наконец, пошло хорошо… Это было бы все же понятней. Если же он не может, если все это дурно, грешно или что-то еще, так зачем обвинять остальных, тех, что тоже не делают ничего, а если делают — делают плохо… Эти мысли, конечно, гораздо менее отчетливые, но от того не менее мучительные, стучатся в висках, не находят ответов. А все-таки, пусть что хотят говорят, — хорошо, что убили… Распутина. Я помню, как раньше о нем отзывались, с какой интонацией, все! А теперь: напрасно, не так… Нет, именно так. Только так, если выхода нету другого.
…Отыграл зимний солнцеворот опереньем фантастических зорь. Прошел Новый год незаметно, встречали его или нет, я не знал. Пришло Крещенье с традиционными водосвятиями. Наш отец Михаил — добрейший старик с сиянием реденьких седых волос вокруг лысеющего лба — приезжал служить молебен и после принял мою первую исповедь. Каяться и рассказывать о своих грехах было очень страшно, еще страшнее что-нибудь позабыть, утаить… Он помог мне, сам задавая вопросы, на которые, как мне сказали, отвечать полагалось: «Грешен, батюшка!» Я так и сделал, но когда он уже накрывал меня епитрахилью, чтобы прочесть отпущение, я очень обеспокоенно из-под нее вынырнул вместе с тяжелым грехом, чуть было не оставшимся на моей совести. Этот грех заключался в том, что я, незадолго до этого, ударил Аксюшу по спине игрушечной саблей. Священник отнесся к этому делу, как мне показалось, весьма легкомысленно и не понял как следует, что я ударил не в игре, а со зла, и что ей было больно, как сама она утверждала, обещая рассказать об этом отцу (не рассказала)… Так и обошлось. Вместе с этими недоконченными признаниями попал-таки под епитрахиль и получил от батюшки отпущение грехов вместе с благословенным хлебцем. Так называлась булочка из просвирного теста, пропитанная через крестообразный надрез наверху сладким церковным вином…
Со дня Кокиной гибели прошло два года. Снаружи могло показаться, что эта рана уже начала немного затягиваться, но это только снаружи. С той ночи, когда пришло извещение, что его нет в живых, все стало иным не на какой-нибудь срок — навсегда.
Читать дальше