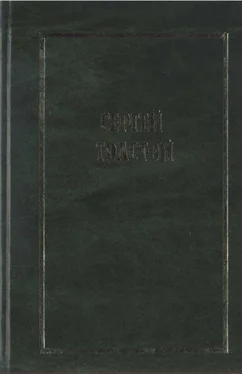Спрашиваю: „Как вы быстро догадались?“
Обрадовался: „Ну что ж, — говорит, — до свидания…“
— Нет, зачем же, прочтите! К чему, — говорю, — раз уж это клинический случай такой, что черных у меня не хватило… Как-нибудь донесу до мусорного ящика… Да нет, погодите!
Уговорил прочитать. Читал плохо. Однако понравилось. Хвалил.
— Это нагло сделано, это мне нравится. Вот это похуже. Вам нужно писать. Что напишете, сразу несите ко мне, звоните и заезжайте.
…Показывал свою библиотеку. О графомании больше ни звука.
Однако вторично к нему не пошел я. Что делать — чернила опять вышли разные: дома — одни, другие на службе, и третьими даже на даче исписал я несколько страниц. Дал машинисткам работу; они поделили, отпечатали и на черной, и на фиолетовой ленте. Подумал и… нет, не рискнул.
Посетил и поэтов. Один рукопись взял, сдвинул черные брови над самым переносьем, приподнял и сдвинул опять, бормотнул: „Есть приятная интонация. Вы мне оставьте, пожалуйста. Надо нам поговорить, позвоните завтра.“
Звоню. — „Из Москвы он уехал месяца на два.“ К его возвращению и сам я уехал на юг. Оборвалось знакомство.
Вот так как-то все проходило. Работой другой заняты дни, недели и годы. Не мальчик уже, 30 лет. Но никто не сказал мне, нужно ли то, что я делаю, или в самом деле графомания это и надо лечиться. Я примирился бы искренне. Гением не считал я себя никогда, талантом считал — было время, теперь не считаю и меньше пишу, уж не ходится мне по редакциям, знаю — везде норовят отвязаться.
(— Хорошо или плохо? А черт его знает!
— Работать надо, молодой человек!)
Как? Где? Для кого? Неизвестно, и работать впустую не хочется, и виски уже с проседью у молодого человека, и обивание порогов претит. Да к чему это? Я сыт и обут, работой обеспечен; прошибаешь стенки лбом всю жизнь, а вот здесь — в самом главном — не хочется. Это значит — бить себя в грудь, пролезать на Парнас, возомня себя гением, но в этом последнем я совсем не уверен».
«…Пишу с семи лет. Иногда совершенно переключаюсь на стихи. На год, на два. Потом опять возвращаюсь к прозе и стихи могу в это время писать только на заказ. Покойный Львов-Рогачевский говорил комплименты, послал в Литвуз, но учиться не смог — было нечем платить. Приняли сразу в Союз поэтов…»
«Читал кусок поэмы в Союзе писателей — всем понравилось, и Брик, который редактирует „Оборонный сборник“, познакомился со мной, хвалил и берет, по-видимому, для сборника». (Это уже из письма 1938 года. Прим. ред.)
В стране нарастает разгул репрессий. По доносу арестован хозяин квартиры Николай Анатольевич Семевский и только что с трудом освобожденный из лагеря двоюродный брат Сергея и Веры, Николай Владимирович Львов. Квартира под наблюдением как официальных органов, так и несчастных многосемейных коммунальщиков, живущих в подвалах и мечтающих с помощью доносов переселиться выше. Остальные уцелели, видимо, благодаря тому, что постоянным наблюдателем за квартирой был крупный чекист Лукин, много лет следивший за этим «шпионским гнездом», но так и не собравший компрометирующих фактов.
Все это сильно действует на Веру Николаевну. Ее давно подорванная психика не выдерживает, и она заболевает душевной болезнью; лечится в больнице и почти на три года выздоравливает.
Но наступает 1941 год, начинается война. Снова голод, холод, болезни, пленения и смерть близких людей. И снова болезнь дает о себе знать.
«…Весной я попала на полтора месяца в больницу, — пишет она в письме в 1943 году. — Вернувшись, месяц ровно ухаживала за Аксюшей. Потом ее конец, похороны…
В житейском смысле, если сравнить с весной, намечаются такие большие просветы, что даже поверить боюсь, точно вот темный лес редеет, редеет, а ты не знаешь, что сейчас; выйдешь ты просто на поляну или же на опушку, за которой настоящее человеческое жилье. „Мне пятьдесят четвертый год, стою одна на перепутье…“ Вчера целый день вертелись в голове эти строки, потому что я чувствовала себя такой одинокой и не то чтобы старой, а так одиноко стоящей среди всех вас, меня окружающих, как старый дуб Среди молодого леса, а может быть, просто обгорелый пень.
Сегодня мне все 54 и уже начался 55-й год жизни, а моя верная спутница с самого рождения окончила свое земное странствие. Без нее как-то странно, слишком просторно стало и не заселено в маленькой комнате „Тупика“, и все говорят: „Уж очень пусто!“ И Коля говорит: „Пусто очень“. Странно. Я пустоты этой не чувствую. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что все больше и больше для меня: „Все живы мертвые… тела мы схоронили, но дух их, светлый дух в душе у нас живет!“ — переживаю на деле строки моего дорогого отца, написанные в самые безотрадные, горькие дни — потери сына, моего любимого, дорогого брата Коки…
Читать дальше