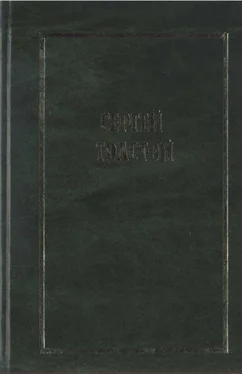С 1926 года начинает работать и Сергей Николаевич. Сохранились его воспоминания об этом времени: «Что я делал в жизни? Учился, потом безработица, десятки летучих профессий: агент-библиотекарь и проч., даже машинистка, потом чернорабочий; бил щебенку из кирпичного половняка, с крыш чистил снег, таскал тяжести, немного надорвался, дали работу полегче — сторожем на куче смолистых стружек; дежурил короткие летние ночи с А. Ренье и Бодлером в руках. Учеба опять — и чертежник (не слишком плохой) из меня получился. Дальше — больше: конструктор… Послали в ВУЗ — стал инженером, потом старшим инженером, но цель и смысл были одни — литература…»
Я подчинил моей безмолвной музе
Все помыслы, всю жизнь и время — сколько мог.
Спокойнее, чем шар лежит в бильярдной лузе,
В груди до дна изрыданный комок.
Идут дожди, с косых сбиваясь ног,
И дни проходят друг за другом мимо,
И даже тот, кто знал, прочтет ли между строк
Чужой души больную пантомиму…
Московская квартира в «Тупике» была пристанищем многих изгнанных родственных семей: Бобринских, Трубецких, Львовых, Комаровских и других. Не имея крыши над головой, работы и пропитания, они, гонимые судьбой, часто находили здесь кров и участие. Сюда же из Саратова приезжает будущая жена Сергея Николаевича, Любовь Федоровна Лятошинская. В 1928 году они обвенчались, а через два года у них родился сын Николай.
В тяжелой, давящей обстановке «Тупик» был как бы оазисом и пристанью в окружающем кошмаре. Несмотря на очень разные характеры и бытовые трудности, здесь сохранилась та душевная атмосфера, которая всегда была присуща этой среде: обсуждались последние события жизни страны, читались вслух как новые, так и наиболее любимые произведения классиков. Здесь Сергей Николаевич впервые читал свои сатирические произведения, стихи, переводы. Приходили интересные люди — родственники, знакомые; жизнь продолжалась. Это был настоящий очаг русской культуры.
Сохранившиеся записки Сергея Николаевича, датированные 1930 годом, ярко и убедительно характеризуют атмосферу того времени: «…Иногда на мостовой появлялись толпы демонстрантов. Они несли плакаты, кого-нибудь и что-нибудь приветствующие или проклинающие. Сегодня, например, это были дети: белобрысенькие девочки, в коротких юбочках, торопились, толкались и взвизгивали; курносые мальчишки старались сохранить серьезность. На их плакатах виднелись красноречивые надписи: „Требуем расстрела!“ — Эту картину он наблюдал из окна учреждения, где тогда работал. — И так мы стояли у окна, стояли втроем, люди очень разные, но вид марширующих детей и, особенно, их плакаты внушали всем нам троим отвращение…»
Мы стали взрослыми. Какой-то вор трусливый
Прокрался в спальню к нам, и даже наши сны —
Все выкрал он. Все сказки прочтены,
Смолк фей и гномов шепот торопливый…
Что это было? Увяданье сада?
Смерть нивы золотой, дотла побитой градом?
Мы в жизнь вошли как будто с похорон,
И рожи злобные, кривясь во мраке, рады,
Что навсегда погашены лампады
И масло пролилось у дедовских икон…
«Все эти годы свободное время писал или в Ленинской библиотеке сидел как прикованный. А для чего? Куда приведут меня мои литературные тропы?..»
«…Позднее же, инженером, печатал в газете статьи о стройке, на которой работал, — по просьбе начальника строительства. Затем фельетоны писал для эстрады, в стихах и прозе. Когда почувствовал, что овладел этим жанром, бросил — не то. В роли белого негра безымянно писал очерки о ряде республик Союза для какого-то американского путеводителя. Наркомотдел, редактировавший, одобрил за них (не меня, а патрона). В результате — больше работы такой мне уже не давали, а дали редактировать очерки коллег, чем я занимался в поте лица до конца работы над этой многотомной эпопеей. „Патрон“ исчез с горизонта. Последний „рекорд“ мой — работа на карнавале — текстовка в стихах, монологи для выкриков. Одобрили. Приняли, хотя с оговоркой: „Очень для нас тонкий юмор, нам погрубее, побалаганнее б…“
Когда же настоящая работа?
Пришел прочитать свои вещи, назад тому года два, уважаемому мной критику.
— Это ваше? А ну дайте… Так… возьмите обратно. Знаете, зачем я брал?
— Нет, не знаю.
— Разными ли чернилами написано.
Меня осенило: „Вот горе, был случай — высохли черные, красными был написан мной ряд страниц“. Подавленно спрашиваю: „И что же?“
— Да, разными, так я и думал. Графомания!
Читать дальше