Он вышел из кухни. Стал бродить по холодному, тёмному дому, то освещая себе дорогу фонариком, то полагаясь на память. Постоял неподвижно в прихожей, на лестнице и в комнате, держа погашенный фонарик в руке и затаив дыхание. У него было ощущение, что он и сам — тёмный дом. Тёмный дом, в котором он стоит, и в то же время — человек, который затаил дыхание в огороженной стенами темноте. Воспоминаний не было. Прошлое не возвращалось. Он просто жил в молчании и темноте. В чёрном пространстве висел мутно-серый квадрат окна. Пятно, не дающее света. То один, то другой предмет приобретал вещественность — не форму, а только особую густоту тьмы. Казалось, что беззвучность и темнота дома — это потоп, он захлёстывает комнату всё выше и выше, заливает пространство, поглощает его. В том покое, который он ощутил, ему казалось, что темнотой и молчанием дом медленно, постепенно замаливает свои грехи.
В верхней спальне с северной стороны он подошёл к окну и стал смотреть на город. Он видел огни в дальних домах. Напрягая зрение, разглядел человеческую фигуру в освещённой комнате. Но все дома были слишком далеко. Он подумал о незнакомом седобородом мужчине, которого мельком заметил в витрине бакалеи Пархема. Он подумал о том, как этот человек несёт домой по улице бумажный мешок с едой, проходит под фонарём, входит в белый дом, где дощатое крыльцо требует починки, отдаёт мешок женщине, которая сварит суп, нальёт в тарелку, поставит перед ним на старую клеёнку. Бред пытался представить себе лицо этой женщины, как она откидывает седую прядь со лба и поправляет очки — они слегка запотели от пара. Улыбнётся ли она мужчине поверх дымящейся тарелки?
Он теперь знал, что внутренний покой воцарился в нём безраздельно. Словно он, Бредуэлл Толливер, открыл глубоко запрятанного себя самого. Своё истинное «я», которое будет жить вечно.
Он глядел из своего окна вниз, на тёмные крыши, а потом вверх, на тёмную громаду тюрьмы, и ещё выше, на небо, где сияли по-зимнему яркие звёзды. Он почему-то поднял руки. И в тот миг — вызвал ли его этот жест или жест был им вызван, он не знал, что было причиной, — но в воздухе возникло лицо Летиции Пойндекстер, словно её образ там, в светящейся туманности, был слит с тёмной землёй, с этим небом и над ними парил.
Она смотрела на него с любовью, с печальной ласковой улыбкой, с томлением и наклоняла к нему голову, как этого часто требовал её рост, выражая этим движением нежную покорность. Он почувствовал, как время над ним течёт, проникает сквозь него, как происходит какой-то глубокий процесс, необычайно ему важный.
Он вернулся на кухню, открыл чемодан, достал пачку бумаги и бутылку, налил себе виски, но пить не стал и при свете свечи, так и не сняв пальто и не чувствуя голода, сел писать:
Моя дорогая.
Только что приехал. Сижу на кухне при трёх свечах и пишу тебе. Я бродил по тёмному дому, где не слышно ни звука, и в этой тиши и мраке я понял, что твоя доброта, красота и любовь — это то, чем я живу и всегда буду жить. Я видел в темноте твоё лицо и тянул к нему руки, чувствуя, как Время течёт сквозь моё существо и надо мной в каком-то глубинном ходе вещей, необычайно мне важном. В эту минуту я учусь у тебя, как бесконечно радостно жить во Времени, через настоящее постигать прошедшее и будущее. Теперь я зримо представляю себе, какой будет у нас с тобой жизнь; и когда ты войдёшь в тёмный дом, все…
Он проснулся в темноте среди ночи в комнате своего детства; ложась, он попросту завернулся в одеяло и уткнулся головой в жёсткий тик подушки. В голове, уже когда он просыпался, созрела мысль: Но в одну комнату я не вошёл.
Он выпростался из одеяла, нащупал ногами туфли, надел пальто вместо халата и, освещая дорогу фонариком, вышел в переднюю, спустился по лестнице и через большую прихожую вошёл в библиотеку. В этой комнате он не был с того дня, когда отсюда вынесли отцовский гроб.
Он обвёл стены фонариком, освещая книжные полки, пустой камин, пол, и задержал луч на том месте, где тогда на козлах покоился гроб. Ждал ли он, отыскивая сюда дорогу, чего-то, что не произошло?
Он вспомнил, что в тот день сказала ему сестра. Как он вбежал в эту комнату, приехав прямо из Дартхерста, и как она, молодая девушка с едва набухшей маленькой грудью и широко расставленными глазами, плакала, стоя посреди комнаты, и, увидев его, воскликнула: «Смотри, каким он стал маленьким, а ведь был такой большой!»
И вот теперь он стоял сгорбившись, дрожа даже в пальто, и, уставив луч фонарика на то самое место, на место, где был гроб, он тоже заплакал. Заплакал внезапно, сам себе удивляясь. Будто плакал кто-то другой. Потом он попытался присвоить себе этот плач. Извлечь из него пользу. На миг даже возгордился тем, что вот он, Бредуэлл Толливер, способен стоять в тёмном доме и плакать. Он ждал награды — блаженного чувства облегчения, которое должно наступить. Но не наступило. Грудь его надрывалась от рыдания. Редкие слёзы бежали по щекам. Его удивляло, что слёз так мало.
Читать дальше
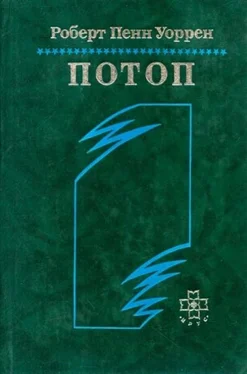





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)