Она оставила им наследство под опекой своего троюродного брата, мемфисского банкира, который был не из тех, над кем мог покуражиться старик Толливер, а, наоборот, сам был бы рад покуражиться над Толливером в отместку за его наглость — он посмел смешать свои плебейские гены с голубой южной кровью Котсхиллов, пусть всего лишь речь шла о дальней троюродной сестре из Фидлерсборо. Мстительность Котсхилла из Мемфиса несомненно выражала потаённые чувства покойницы. Ибо Калиста Котсхилл в конце концов возненавидела себя за тот взрыв тёмной страсти, который отдал её, дрожащую перезрелую девственницу, на милость мозолистого, волосатого Ланкастера Толливера; она возненавидела Ланкастера Толливера за те бесчисленные унижения, которым он её подвергал, утоляя насущные потребности своей грубой натуры, причём больше всего за то, чтó раньше мучило её в снах и отдало ему во власть. И вот она умерла, извергнув из своей утробы дитя — плод последнего надругательства над собой Ланка Толливера, надругательства над её презрением к себе, над её постоянным изумлением перед собственной слабостью.
Однако вовсе не банкир из Мемфиса заставил Толливера отпустить сына. В то время, когда Бреду исполнилось четырнадцать лет, Ланк Толливер был ещё в расцвете сил; его природную заносчивость всё ещё подстёгивали богатство и престиж, которые ещё мог дать ему Фидлерсборо. И в этих условиях даже мемфисскому банкиру вряд ли удалось бы одолеть его самодурство. Удалось это самому Бреду. Но благодарить за это он должен был Лупоглазого. Ведь это Лупоглазый привёл его на болото, где Толливер валялся в грязи, с ещё не высохшими потёками слёз на щеках.
И событие это имело двоякие последствия.
Во-первых, мальчик, который умел сносить грубое самодурство отца и, в сущности, был привязан к нему из-за этого его самодурства, научившись играть на его причудах как на инструменте, не мог вынести, что при всей своей грубости отец позволял себе лежать в грязи и плакать. То, что он узнал, подорвало саму основу его существования. Он просыпался ночью, чувствуя, что его физически тошнит. Он не мог оставаться в доме после того, что увидел.
Во-вторых, мальчик понял, что теперь он получил в руки оружие, с которым сможет навязать свою волю отцу. И вот однажды утром в июле 1929 года мальчик спокойно заявил за завтраком, что осенью поедет в школу, где учится Калвин Фидлер, в академию Мори в Нашвилле.
— Чёрта лысого ты поедешь, — сказал отец.
— Я уже написал мистеру Котсхиллу, маминому родственнику, в Мемфис, — сказал мальчик, — и он всё устроил.
Он смотрел, как тёмная кровь кинулась отцу в лицо, и подумал, что оно похоже на грозовую тучу, которая набухает в жарком летнем небе и вот-вот сверкнёт молнией. Его вдруг окрылил этот образ, и он сказал самым невинным тоном:
— Знаешь, это тот мамин родственник, который распоряжается оставленными мне и Мэгги деньгами.
— К чертям собачьим! — заорал отец и вскочил, как ужаленный бык, который ломится сквозь кустарник. Стул под ним грохнулся, а сам он пошёл на мальчика.
Мальчик не поднялся ему навстречу. Он только сказал:
— А что я про тебя знаю…
Отец остановился. Его остановили не слова, потому что он их и не понял. А невозмутимое лицо мальчика. Лицо было совершенно спокойное, ничем не встревоженное, не взбудораженное какой-либо эмоцией. Белокурые волосы, ещё тёмные от утреннего мытья, гладко прилизаны, волосок к волоску. Вот из-за этой невозмутимости отец и остановился как вкопанный с поднятой для удара правой рукой.
— Я видел, как ты плачешь, — сказал мальчик.
Отец вытаращился на него. Багровое лицо пошло белыми пятнами. Но рука была всё ещё поднята.
— Да, — сказал мальчик. — Я видел, как ты лежал в грязи на болоте, куда ты ходишь плакать. Ты плакал.
Поднятая рука задрожала.
— Послушай, — произнёс мальчик теперь уже шёпотом, — ты меня не удержишь. Ты предпочёл бы, чтобы я убрался сейчас же. Ты ведь не хочешь, чтобы я остался и глядел на тебя, а ты бы знал, что я знаю каждый раз, когда я на тебя гляжу.
Белые пятна на лице стали ещё заметнее. Вид у отца был совсем больной.
— К тому же, — продолжал мальчик, — у тебя останется Мэгги. Ты сможешь сажать её на колени и трепать волосы и не будешь видеть, как я на тебя смотрю.
На этом всё и кончилось. Рука медленно опустилась. Отец посмотрела на руку, потом прижал её к бедру, словно на ней рана и он этого стыдится. Он вышел из столовой, не произнеся ни единого слова. Мальчик остался сидеть, но тут, мягко ступая, вошла негритянка и стала молча убирать со стола. Утреннее летнее солнце освещало объедки завтрака. А мальчика переполняло радостное ощущение своего могущества.
Читать дальше
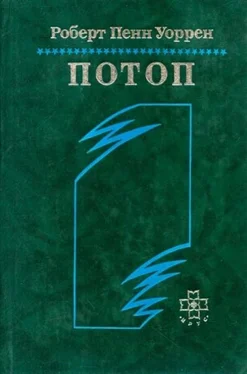





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)