Бредуэлл Толливер доехал по Ривер-стрит до южной окраины города и остановился. Поставив машину на обочину, он представил себе, как Блендинг Котсхилл вдет по темнеющим улицам к тюрьме. Подумал, что и сам ведь собирался присутствовать на отвальной у Красавчика. Впрочем, ещё не поздно. Он успеет. Мистер Бадд его пустит.
При этой мысли он вдруг почувствовал возбуждение. Он не может этого пропустить. Ничего такого он ещё ни разу не видел. Он должен это увидеть. Ведь он же писатель, верно?
Писатель, — подумал он.
И подумал: дерьма-пирога.
И подумал: все писатели — дерьма-пирога.
Потом оглянулся и поглядел на город. С этого места за крышей аптеки Рексолла открывался большой простор — там под ночным небом чернела громада тюрьмы и при ярком свете прожекторов на больших воротах можно было разглядеть широкие каменные ступени, спускавшиеся к верхней дороге. Он вглядывался в это пространство. Освещённое пространство, казалось, плыло в воздухе над тёмными крышами.
Прошло немало времени, прежде чем в ночной темноте он разглядел белое пятно — это там появился Блендинг Котсхилл. Белое пятно недолго простояло у каменных ступеней, прежде чем двинулось дальше к освещённым воротам. Лучи света падали на длинные ступени, по которым взбиралось белое пятно; но над этим светом, прорезавшим небо, стояла непроглядная тьма. Наконец белое пятно исчезло в темноте ворот.
Бред Толливер сидел в «ягуаре» — его обуревали зависть и ощущение отверженности. Он чувствовал себя отринутым жизнью. Он завидовал человеку, который мог по праву подняться на холм, взойти по каменным ступеням и войти в тёмную дверь. У него этого права не было.
Он медленно поехал к дому, постепенно сознавая — и сознание это приходило к нему словно оттуда, где падал редкий снежок, — что в тот миг, когда он, взволновавшись, подумал, что тоже может пойти в тюрьму, лицо, которое он мысленно увидел, лицо с чёрным колпаком над головой, вовсе не было лицом Красавчика. За снежной пеленой воображения лицо, которое он тогда увидел, было лицом Бубенчика. И хотя невидимые руки держали над этим лицом чёрный колпак, лицо Бубенчика торжествующе ухмылялось ему сквозь сетку падающих снежинок.
Он медленно поднял руку и пощупал ссадину на подбородке, куда его ударил Бубенчик.
Что ж, даже если черномазый и сбил тебя с ног, это ещё не значит, что тебя посетит видение!
Похоже, брат Потс прав: надо было добиться, чтобы он плюнул мне в лицо. И стерпеть, не вытереть плевка. Пусть высохнет под ветерком, на солнышке. Надо бы обсудить это дело с Бубенчиком. От этой мысли ему стало даже весело.
Но ему недолго было весело.
Он почувствовал слабость и утомление. Он вспомнил, какое пойло пил вчера ночью. Вспомнил, как, лёжа на досках плавучей лачуги, смотрел на звёзды и старался назвать их по именам. Ну да, сейчас он поедет домой, достанет какой-нибудь еды из холодильника, чтобы утихомирить желудок, и ляжет спать. Он не хотел ни о чём думать, помимо того, что ляжет спать. Не хотел думать о завтрашнем утре, о том, что надо будет вставать.
Слева от него тянулось кладбище. Он подумал, что так и не отыскал могилу старого Изи Гольдфарба. Он вспомнил как тысячу лет назад Изя Гольдфарб сидел на плетёном стуле перед своей портняжной мастерской на Ривер-стрит и глядел за реку, на запад, а на его спокойное лицо падали последние закатные лучи, освещая прозрачную кожу на тонком лице. Непонятно, почему он так и не нашёл его могилу.
Завтра, решил он, надо сделать ещё одну попытку.
На перевале в лесу всё время ухала сова.
Когда он вошёл в тёмную прихожую, он увидел что сквозь широкую арку, ведущую в столовую, падает свет. Он знал, что уже поздно; в доме, наверное, спали, уже около десяти, однако на светящийся циферблат своих часов смотреть не стал. Ему не хотелось знать, сколько ещё времени до полуночи.
Он стоял в прихожей, ощущал пустоту дома. Она была осязаемой, как густой, хоть и невидимый туман, который холодно оседает в темноте на щеках. Ночь стояла, жаркая, типичная июльская ночь в Западном Теннесси, но он стоял, чувствуя, как тёмная пустота дома давит на него и оседает на щеках холодными каплями тумана.
Однако дом не мог быть пустым. Во-первых, наверху спит старушка, а Мэгги никогда не оставляет её одну; когда Мэгги уходит, она поручает её кухарке Айрин или кому-нибудь ещё. Наверху непременно кто-нибудь есть. Но тут он подумал, что сама старушка — тоже своего рода пустота. Она часть того невидимого тумана, который наполняет дом. Да и Айрин тоже только часть этой пустоты. Он знал, что её зовут Айрин, но, кроме имени, не знал о ней ничего — только имя и коричневый большой палец на белой тарелке, которую перед ним ставили, большой палец с очень белой лункой у ногтя. Он вдруг вспомнил, что имя Айрин означает покой. Айрин — это покой. Но мысль тут же пошла вкось, словно вдруг перекосило рот: чёрт возьми, но ведь покой — это тоже пустота?
Читать дальше
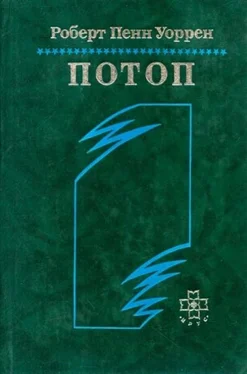





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)