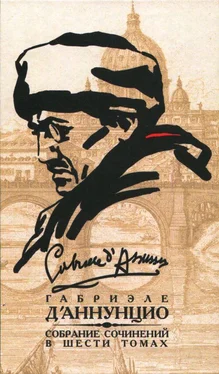Теперь мысль его неслась за пределы этих стен с трепещущей массой людей, в какой-то героический цикл красных трирем, укрепленных башен и торжественных процессий. Этот зал казался ему слишком тесным, чтобы вместить это новое необъятное ощущение, и снова его потянуло к настоящей толпе, к несметной, воодушевленной одним чувством толпе, еще недавно теснившейся на пристани и своими криками, — опьяняющими, как вино или кровь, — пронизывавшей звездную ночь.
И не только к этой толпе, но к бесчисленным толпам людей устремлялась теперь его мысль, они рисовались его воображению — спешившие в обширные театры, подчиненные одной идее Истины и Красоты, бледные и внимательные, перед громадной аркой сцены, открывавшей чудесное изображение жизни, или же неистовствовавшие перед зрелищем Красоты, выливавшейся в бессмертном слове. И мечта о более высоком Искусстве, снова возникнув в его душе, рисовала ему этих людей, чтивших в поэте единого властелина, обладателя силы прерывать на время человеческую тоску, утолять жажду, давать забвение. И теперь предстоящая задача казалась ему чрезвычайно легкой: ум его, возбужденный вдохновением толпы, способен был создавать гигантские образы. В душе его внезапно дрогнуло гордым трепетом жизни только зревшее, но еще бесформенное создание, и глаза его устремились к группе созвездий, ища трагическую актрису — Музу откровения, сосредоточенную и молчаливую, в складках своей одежды несущую ему восторги далекой толпы. Почти изнеможденный невероятной интенсивностью пережитого во время этой паузы, он заговорил более тихим голосом. Речь его теперь была проникнута мягкой звучностью осени, изображенной художниками прошлого прекрасной Венеции. Он говорил о расцвете искусства в период между молодостью Джиорджионе и увяданием Тинторетто, изображая этот период облеченным в пурпур и золото, роскошным и чарующим, как пышная флора земли в последних лучах солнца.
— Созерцая этих великих художников — жрецов красоты, — я вспоминаю отрывок из Пиндара: «Когда кентавры познали силу вина, сладкого как мед и опьяняющего сознание, они сейчас же сбросили со столов кувшины с молоком и поспешили упиться вином из серебряных рогов…» Никто на свете, до этих художников, не вкушал всей сладости вина жизни. Они извлекали из него божественное опьянение, увеличившее их силу и сообщавшее их красноречию плодотворную энергию. В лучших произведениях этих художников неистовое пульсирование жизни продолжалось на протяжении веков, как ритм венецианского искусства.
Ах, в каком чистом поэтическом сне покоится девственница Урсула на своем непорочном ложе! Безмятежная тишина напоминает одинокую комнату, где благоговейно сложенные уста спящей говорят лишь о молитве. В раскрытые двери и окна проникает робкий свет зари, освещая буквы, начертанные на уголке подушки: Infantia Простое слово, распространяющее вокруг девственного чела свежесть утра: Infantia Она спит, эта девственница — невеста языческого принца, предназначенная для мученичества. Целомудренная, наивная и благочестивая, не является ли она символом Искусства, каким оно рисовалось предшественникам этих художников с искренней и наивной душой? Infantia Это слово на углу ее подушки вызывает воспоминание о незабвенных именах: Lorenzo Veneziano, Simone da Cusighe, Catarino, Yaccobello, Maestro Paolo, Giambono, Semitecolo, Antonio, Andrea, Quiriso da Aurano — всей этой трудолюбивой семьи, приготовившей краски для тех, кто мог соперничать в яркости с огнем. Но не испустили ли бы крика восторга даже они при виде крови девственницы Урсулы, струившейся из ран, нанесенных ей прекрасным языческим стрелком? Этой алой крови тела, вскормленного молоком! Убийство походило на праздник: самое красивое оружие, самые богатые одежды, самые изящные позы стрелков. Этот юноша с золотистыми волосами, с таким гордым красивым жестом пронзающий стрелой тело мученицы, не походит ли он на юного, бескрылого переодетого Эроса?
Этот прелестный убийца невинности (или подобный ему) бросит свой лук и завтра же отдастся очарованию музыки, навевающей бесконечные грезы страсти.
Это душа Джиорджионе, загорающаяся неукротимым огнем желаний. Его музыка уже не походит на ту мелодию, что не дальше как вчера, сорвавшись с примитивных струн лютни, проносилась под сводами храма в видениях Беллини третьего. Она продолжает еще звучать с клавикорд, при прикосновении рук молящихся, но мир, пробуждаемый ею, уже полон страдания и радости, таящих в себе грех.
Читать дальше