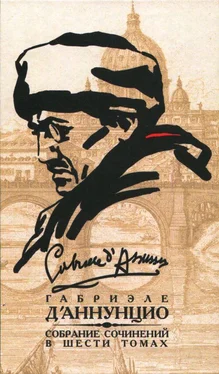Фоскарина, сняв перчатку, взяла в свои пальцы ножку бокала.
— Если бы он разбился, — продолжал Стелио, — надо было бы воздвигнуть ему мавзолей, как сделал Нерон в Канах для своей разбитой чашки. Ах! Любовь к вещам! Другой деспот, Ксеркс, превзошел вас, друг мой, в этой любви, украсив ожерельями прекрасное дерево.
На губах ее под вуалью появилась чуть заметная улыбка — она была хорошо знакома ему, эта улыбка, он уже страдал от нее на берегах Бренты среди унылых полей с мелькающими статуями.
— Сады, сады, всюду сады. Когда-то они считались самыми красивыми в мире — земным раем называет их Андреа Кальмо, земным раем поэзии, музыки и любви. Быть может, какой-нибудь из этих старых лавров слышал разговоры Альда Мануса на греческом языке с Навагеро или вздохи Мадонны Гаспарины о графе де Кольальто.
Они шли по узкой дороге между оградами унылых садов. На гребнях стен, среди красных кирпичей, дрожали странные травы, длинные и твердые, как пальцы. Бронзовые лавры были позолочены закатом. В воздухе искрилась золотистая пыль.
— Какая печальная судьба у этой Гаспары Стампо. Знаете вы ее стихи? Да, я видел книгу у вас на столе. В них смесь льда и огня. Временами сквозь петраркизм, навеянный Кардиналом Бембо, ее смертоносная страсть прорывается красивым криком. Я знаю ее чудные стихи:
Vivere ardendo e non sen tire il male… [32] Жить в огне и не чувствовать боли…
— Помните вы Стелио? — спросила Фоскарина со своей загадочной улыбкой сомнамбулы, — помните вы сонет, начинающийся так:
Signore, io so che in me non son piu viva
E veggo omai ch’ancor in voi son morta.. [33] Синьор, я знаю, что во мне нет больше жизни. И я вижу теперь, что и в вас я умерла…
— Помните вашу красивую фантазию, навеянную Осенью? „Она лежала распростертая на погребальной лодке, одетая в золото, словно догаресса, и свита везла ее к острову Мурано, где властелин огня должен был заключить ее под опаловое стекло, чтобы, опущенная на дно лагуны, она могла созерцать извивы водорослей“. Помните?
— Это было Сентябрьским вечером…
— В последний Сентябрьский вечер, в вечер Аллегории. Ярким светом сияли воды… Вы казались несколько опьяненным… вы говорили… говорили…
Как много вы тогда говорили! Вы возвратились из уединения, и ваша переполненная душа рвалась наружу. Вы изливали на свою спутницу поток поэзии… Промелькнула лодка, нагруженная гранатами… Я назвала себя Пердитой… Помните?
Фоскарина чувствовала сама необыкновенную легкость своей походки, она казалась парящей, точно ее тело сбросило земную оболочку и обращалось в призрак. Это физическое ощущение как будто имело какую-то связь с бокалом в ее руке, как будто проистекало от заботы о хрупком предмете и от боязни уронить его на землю. Рука ее без перчатки мало-помалу замерзала, и жилки на ней принимали оттенок морской воды, подобно изменчивым краскам бокала.
— Я еще тогда назвала себя Пердитой… Известен ли вам, Стелио, другой сонет Гаспари? Он начинается так:
Io vorrei pur che Amor dicesse come
Debbo seguirlo… [34] Я хотела бы, чтобы Любовь научила меня — как за ней следовать.
— И этот мадригал:
Se tu credi piacere al mio signore… [35] Если ты надеешься понравиться моему властелину.
— Я не знал, что вы так близко знакомы с несчастной Анасиллой, друг мой.
Я вам расскажу сейчас… Мне не исполнилось еще 14 лет, когда я выступила в одной старой романтической трагедии под заглавием „Гаспара Стампо“. Я играла главную роль… Это происходило в Доло — мы были там с вами по дороге в Стра — в маленьком деревенском театре, имевшем вид барака… За год до смерти моей матери… Да… я хорошо помню… Некоторые события встают в моей памяти, точно они случились лишь вчера. А с тех пор прошло 20 лет! Я вспоминаю звук моего еще детского голоса — я старалась усилить его, потому что кто-то из-за кулис шептал мне, чтобы я говорила громче, как можно громче… Гаспара мучилась, безумствовала по милости своего жестокого графа… Я еще не знала, не понимала всего этого своей детской душой, но какой-то инстинкт страдания внушал мне голос и выражение, способные взволновать жалкую толпу, от которой зависел наш ежедневный кусок хлеба. Десять голодных существов возлагали на меня надежды как на средство заработка, насущная потребность подрезала и вырывала безжалостно все цветы грез, рождаемых моим трепетным, слишком рано развившимся воображением… Время рыданий, вздохов, страха, бесконечной усталости, затаенного отвращения! Мои мучители не знали сами, что творили — бедные люди, отупевшие от голода и непосильной работы! Бог да простит им и да пошлет им мир! Лишь мать моя, так как она тоже:
Читать дальше