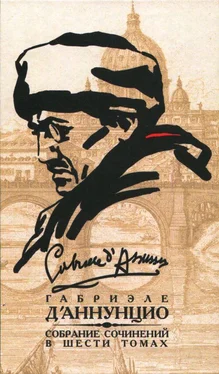Фоскарина все молчала, невольно ускоряя свои шаги, и Стелио решил коснуться другой правды:
— Я понимаю… Вы не это желали знать…
— Да, не это… Что же?
Она обернулась к нему с конвульсивным порывом, напомнившим Стелио отчаянье и ужас того далекого вечера, когда он слышал ее безумный крик: „Иди! Беги! Она ждет тебя!“
На молчаливой набережной, среди ленивого спокойствия вод и легких красок прозрачного стекла — на унылом острове призрак несчастия промелькнул перед ними как молния.
Но какой-то человек преградил им путь, предложив проводить их в ближайшую мастерскую, где выдувалось стекло.
— Пойдем! Пойдем, — сказала Фоскарина, спеша за человеком, предлагавшим свои услуги, желая найти убежище, чтобы скрыть свое горе от уличного шума, от предательского солнечного света.
Мастерская помещалась на сыром месте со следами селитры, с запахом соленой воды, точно рабочая хижина. Они прошли через двор, заваленный дровами, через низкую дверь, очутились в царстве огня, почувствовали себя охваченными пламенным дыханием и остановились перед большим раскаленным добела горном, ничего не было видно кроме пламени, причинявшего боль глазам, словно от огня вспыхивали их ресницы.
„Исчезнуть… Быть поглощенной, не оставив следа, — кричало сердце женщины, жаждущее гибели. — В одно мгновение этот огонь мог бы истребить меня, как лист бумаги, как связку соломы“. И она приближалась к жерлу печи, откуда видны были языки пламени, лизавшие глиняные формы, в них кипел еще бесформенной массой расплавленный состав, и рабочие, стоя кругом за щитами, мешали его железными прутьями, чтобы затем, посредством выдувания, выделывать из этого состава различные предметы.
„Сила огня!“ — подумал поэт, отвлекаясь от своей тревоги перед дивной красотой любимой стихии, близкой ему с того дня, как он нашел в ней вдохновенную мелодию. „Ах! Иметь возможность придавать всем любящим меня существам совершенные формы, приблизить их к идеалу моих стремлений, растопить все их слабости в их беззаветной пламенной преданности, обратить их в послушный материал для моих властных желаний и для воплощения образов моей чистой поэзии! Зачем, зачем, мой друг, не хочешь ты быть чудной живой статуей, которой мой ум придаст идеальные формы, зачем не хочешь ты быть созданием веры и страдания, чтобы наша жизнь могла превзойти наше искусство. Зачем нам походить на жалких любовников — плачущих и проклинающих! Когда я услышал из уст твоих прекрасные слова: „Я могу сделать то, чего не может сделать любовь“, я поверил, что ты действительно можешь дать мне больше, чем любовь. Для удовлетворения моих ненасытных стремлений мне необходимо иметь власть над всем, что может и чего не может любовь“.
Вокруг плавильной печи кипела работа. У концов выдувальных трубок стеклянная масса вздувалась, извивалась, серебрилась точно маленькое облачко, блестела точно луна, дробилась на тысячи брызг дрожащих, сверкающих, более тонких, чем нити паутины, протянувшиеся в лесу между ветвями. Мастера выдували и отделывали изящные бокалы, и каждый в своих движениях повиновался ритму, созданному общением с хрупкой массой и привычкой подчинять ее своей воле. Служащие размещали отдельные части расплавленного состава по указанию мастеров на выдувальных трубках. Небольшая грушевидная форма удлинялась, вытягивалась, расширялась — обозначались края бокала, его ножка и основание. Мало-помалу под инструментами краснота массы исчезала, и нарождающийся бокал, не отделенный еще от трубки, погружался в пламя. Затем его вынимали, и он становился послушным, гибким, чувствительным к нежным инструментам, которые отделывали и украшали его по образцам старинных моделей или сообразно свободному замыслу нового изобретателя. Необыкновенной легкостью и живостью отличались движения людей вокруг этих изящных созданий огня, дыхания и железа, точно движения молчаливого танца. Фигура Танагры вставала перед поэтом, среди постоянных извивов пламени, подобно Саламандре. Голос Донателлы словно пел ему захватывающую мелодию.
„Сегодня опять я сама дала тебе ее в спутницы, — думала Фоскарина. — Я сама позвала ее, и она встала между нами, я напомнила тебе о ней, когда, может быть, твои мысли витали далеко от нее, я сама неожиданно привела ее к тебе, как в ту ночь безумия“.
Да, это была правда. С той минуты, когда имя певицы прозвучало в первый раз, произнесенное устами Стелио в тени вечерних вод, с той самой минуты она невольно, но постоянно вызывала в памяти поэта юный образ, вызывала своей ревностью, своим страхом, невольно она усиливала обаяние этого образа и с каждым днем делала его более ясным и привлекательным. Сколько раз повторяла она своему другу, быть может, начинавшему забывать: „Она тебя ждет“. Сколько раз она возвращала, быть может, бессознательную мысль Стелио об этом далеком таинственном ожидании. И, как в ночь Диониса, пожар Венеции зажег одинаковым отблеском два юных лица — так теперь ее отчаянье, ее страсть воспламеняли их сердца, и они должны были пылать лишь потому, что она заронила в них искру. „Не может быть сомнения, — думала несчастная женщина, — в настоящую минуту Донателла владеет им, и он владеет Донателлой. Моя тревога лишь возбуждает его. Ему доставляет наслаждение любить другую, видя мои страдания“.
Читать дальше