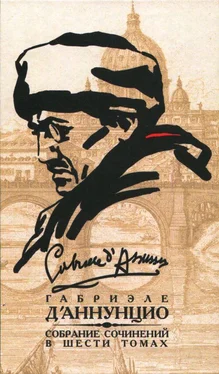От Фоскаро до Барбариджи все княжеские виллы, где бледная жизнь, нежно отравленная косметикой и ароматами, угасла среди томной болтовни о родимых пятнышках, разрушались в безмолвии, без присмотра. Некоторые имели вид человеческих скелетов с их пустыми отверстиями, похожими на ослепшие глаза, на беззубые рты. Другие, казалось, готовы были обратиться в прах и пыль, как волосы мертвецов, когда открывают их могилы, как старые одежды, съеденные молью, когда открывают давно запертый шкаф. Стены зданий обвалились, пилястры были разбиты, решетки сломаны, сады заросли сорными травами. То там, то сям — вдали, вблизи — всюду в виноградниках, в огородах среди серебристой капусты, среди овощей, среди пастбищ, на кучах навоза и виноградной шелухи, под скирдами соломы, у порога хижин — всюду в приречной деревушке возвышались статуи. Бесчисленные, как целое племя, они стояли белые, серые или желтые от лишайника, или зеленые от мха, или же усеянные пятнами плесени — в разных позах, с разными жестами: Богини, Герои, Нимфы, Времена Года, Часы — со всеми своими луками, стрелами, гирляндами, рогами изобилия, факелами, со всеми эмблемами своего могущества, богатства и наслаждения, изгнанницы фонтанов, гротов, лабиринтов, колыбелей, портиков, подруги вечно зеленых буков и мирт, покровительницы мимолетной любви, свидетельницы прощальных обетов, образы мечты гораздо более древней, нежели рука, создавшая их, и глаза, созерцавшие их в истребленных садах. И под нежными солнечными лучами этого позднего умирающего лета их тени, захватывающие мало-помалу деревушку, казались тенями неумолимого прошлого, того, что более не любит, что более не плачет, что никогда не оживает, что никогда не вернется.
И немое слово на их каменных устах было то же, которое застыло на устах поникшей женщины — Ничто!
Но в этот же день их посетили и другие тени, другой ужас.
Отныне трагический смысл жизни стал тревожить обоих. Напрасно старались они победить физическую тоску, с каждой секундой делавшую их ум все более проницательным и все более беспокойным. Они держались за руки, словно бродили в темноте или в опасном месте. Говорили редко. Иногда смотрели друг на друга, и из одних глаз в другие переливалась смутная волна безграничного ужаса и безграничной любви.
— Мы едем дальше?
— Да.
Они крепко держались за руки, точно готовясь предпринять страшное испытание, исследовать, какой глубины могут достичь соединенные силы их грусти. В Доло под колесами их экипажа затрещали сухие листья каштанов, усыпавшие дорогу, и изъеденные ржавчиной деревья засверкали над их головами, как пурпурные занавесы, охваченные пожаром. Несколько далее вилла Барбариджи предстала перед ними, одинокая и унылая, среди своего обнаженного сада, красноватая, со следами старинной живописи в расщелинах стен, похожей на остатки румян и белил в морщинах старой развратницы. И при каждом взгляде удаляющиеся дома деревни уменьшались и синели, точно затонувшие в воде.
— Бот Стра…
Они остановились перед виллой Пизани и вошли туда. В сопровождении сторожа они посетили пустынные комнаты. Звук их шагов раздавался на мраморе и отражался эхом под старыми сводами, двери словно вздыхали, открываясь и закрываясь, голос сторожа дрожал и хрипел, рассказывая о прошлом. Комнаты были просторные, обтянутые выцветшими материями, убранные в стиле ампир с эмблемами Наполеона. На стенах одной висели портреты рода Пизани — прокураторов Сан-Марко, на стенах другой находились мраморные изображения всех дожей. Третью украшали цветы, писанные акварелью, помещенные в нежные рамки, бледные, как и цветы, хранимые под их стеклом на память о любви или о смерти. Фоскарина вошла в четвертую комнату.
— Col Tempo! — сказала она. — И здесь тоже.
Там — над консолью — виднелась воспроизведенная из мрамора „Старуха“ Франческо Торбида, казавшаяся еще ужаснее от рельефа, от тонкого выполнения скульптора, постаравшегося отделить резцом каждую складку, каждую морщину. А в дверях комнаты словно витали призраки коронованных женщин, скрывавших свои несчастия и свое падение в этом убежище, обширном, как дворец, обширном, как монастырь.
— Мария-Луиза Пармская в 1817 году, — объяснял тягучий голос сторожа.
А Стелио продолжал:
— Королева Испании, супруга Карла IV, любовница Мануэля Годои. Она привлекает меня больше всех. После изгнания она явилась сюда. Не знаете ли вы, жила ли она здесь с королем и фаворитом?
Читать дальше