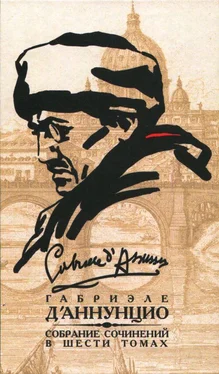Ее жизнь, казалось, то сжималась, то разжималась. Минута напряжения проходила, и она ожидала следующую, а между ними у нее было только ощущение бегущего времени, догорающей лампы, увядающего тела, бесчисленных форм тления и гибели.
— Друг мой! Друг мой! — произнес вдруг Стелио, повернувшись к ней и беря ее за руку с волнением, подступившим к его горлу и заставляющим его задыхаться. — Зачем явились мы сюда? Здесь все полно такой тишины и такого ужаса!
Он устремил на нее взгляд с выражением, время от времени появлявшимся в его глазах внезапно, как слеза: взгляд, проникающий в глубину совести другого человека, освещающий самые бессознательные, самые темные уголки души; взгляд, глубокий, как у старика, глубокий, как у ребенка. И Фоскарина дрожала под этим взглядом, точно душа ее стала слезой на ее ресницах.
— Ты страдаешь? — спросил он с заботливым страданием, заставившим ее побледнеть. — Ты ощущаешь этот ужас?
Фоскарина посмотрела вокруг с тревогой преследуемого существа, и ей казалось, что тысячи роковых призраков встают перед ней.
— Это статуи, — сказал Стелио, и при звуке его голоса в глазах Фоскарины статуи обратились в свидетелей ее собственной гибели.
Деревня вокруг них простиралась молчаливая, точно обитатели или покинули ее уже за несколько веков перед тем, или спали все со вчерашнего дня в могилах.
— Хочешь, вернемся назад? Лодка еще ждет.
Она, казалось, не слышала.
— Отвечай же, Фоскарина!
— Вперед! Вперед! — ответила она. — Куда бы ни направлялись мы — от судьбы не уйдешь!
Ее тело отдавалось движениям колес, укачиваемая ездой, она не хотела нарушать своего гюлудремотного состояния. Ей казалось невыносимым малейшее усилие, малейшее напряжение — тяжелое оцепенение сковало ее члены. Лицо ее походило на хрупкие пленки пепла, образующиеся вокруг тлеющих углей и прикрывающих их догорание.
— Милый, милый друг, — сказал Стелио, наклоняясь к ней и касаясь губами ее бледной щеки. — Прижмись ко мне, доверься мне всецело. Никогда мы не изменим друг другу! Мы найдем, найдем ту сокровенную истину, которая сохранит нашу любовь неприкосновенной навеки. Не будь замкнутой со мной, не страдай одиноко, не скрывай от меня своих сомнений. Говори, когда твое сердце переполняется горечью. Позволь мне утешить тебя. Не будем молчать, не будем таить ничего. Я решаюсь напомнить тебе условие, поставленное тобой самой. Говори, спрашивай, и я всегда отвечу без всякой лжи. Позволь мне прийти к тебе на помощь, я получил от тебя так много… Я считаю душу твою способной вместить страдания всего мира… Пусть я не потеряю веры в эту силу, делающую тебя порой божественной в моих глазах. Скажи же мне, что ты не боишься страдания… Я не знаю… Быть может, я ошибаюсь, но я почувствовал в тебе какую-то тень, точно отчаянное желание бежать от меня, скрыться, найти развязку… Зачем? Зачем? И сейчас, когда я смотрел на это страшное уныние вокруг нас, великая тревога сжала мое сердце: я подумал, что твоя любовь может также измениться, пройти… разрушиться… „Ты меня погубишь“. Ты ли произнесла эти слова, ты ли, друг мой, из твоих ли уст вылились они?
Фоскарина не отвечала. И в первый раз с тех пор, как она полюбила, речи возлюбленного казались ей пустыми, бесполезными, не имевшими над ней власти. Первый раз ей показалось, что Стелио сам был слабым, робким существом, подчиняющимся непреложным законам. Ей стало жаль его, так же как и себя. Ему тоже приговор страдания и безумия предписывал неизбежность героических поступков. В тот самый момент, когда он пытался утешить, успокоить ее — он предсказывал вместе с тем тяжелые испытания, подготавливая ее к страданиям. Но чего стоило мужество? Чего стоили усилия? Что могли значить ничтожные человеческие волнения? И как могли они думать о будущем, о завтрашнем дне? Здесь лишь прошлое царствовало вокруг них, и сами они со всеми своими страданиями были ничто.
— Мы двое умирающих — ты и я, мы двое умирающих… Мы грезим и умираем…
— Замолчи, — сказала она ему голосом тихим, как вздох, точно они находились на кладбище.
По углам ее губ скользнула страшная улыбка… остановилась… и замерла, как на губах портрета.
Колеса скрипели, вращаясь по белой дороге вдоль берегов Бренты.
Река — величественная и торжественная, воспеваемая сонатами любезных аббатов в ту эпоху, когда на ее воды спускались лодки, полные музыки и веселья — теперь имела скромный вид канала, где плескались стаями зеленые и синие утки. На протяжении всей низкой равнины поля дымились, растения увядали, листья гнили на сырой земле. Густой золотистый пар разложения реял над землей разложения, которое, казалось, распространялось на камни, на стены, на дома и подвергало их разрушению, как и листья.
Читать дальше