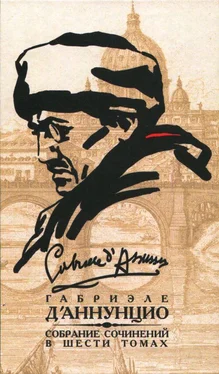— Итак, ты помещаешь драматический эпизод между двумя симфониями, подготавливающими и заканчивающими его, потому что музыка — это начало и конец людской речи.
— Я таким образом сближаю зрителя с героями драмы. Помнишь ты в оде, восхваляющей Гете за перевод Магомета, какой образ дает Шиллер для пояснения, что только идеальный мир присутствует на сцене. Колесница Фесписа, как ладья Ахерона, так легка, что может везти лишь тени, лишь призраки людей. Обыкновенно эти образы людей далеки от нас, и всякое общение с ними кажется нам немыслимым, как общение с призраками. Они далеки и чужды. Но, заставляя их появляться среди гармоничного молчания, предпослав им музыку, я сближаю с ними зрителей, потому что освещаю самые глубокие тайны руководящей ими воли. Ты понимаешь? Их сокровенная сущность — здесь, в непосредственном общении с душой толпы, которая под Идеями, выражаемыми словом и движением, чувствует глубину мотивов, соответствующих в симфонии этому выражению. Значит, я показываю и картины, написанные на полотне, и то, что за ними происходит. При помощи музыки, танцев и пения я создаю вокруг моих героев идеальную атмосферу, отражающую всю жизнь Природы так ясно, что в каждом их действии обнаруживается не только могущество Предопределения, но и соприкосновение с самыми тайными силами окружающего, как у первородных душ, вращавшихся в великом трагическом круге. Герои Эсхила носят на себе отпечаток породивших их миров, и я также хотел бы, чтобы в моих героях трепетал поток дикой энергии, чтобы они сливались с землей, с ветром, с водой, с огнем, с горами, с тучами в трогательной борьбе против Фатума, который должен быть побежден. И пусть природа станет рядом с ними такой, какой видели ее античные трагики — пламенной актрисой, выразительницей вечной драмы. Они входили в Campo di San-Cassiano, пустынное, неприветливое, и их голоса и шаги, точно в кольце скал, гулко раздавались, смешиваясь с шумом, доносившимся из Большого канала. Фиолетовые тени поднимались из бурлящих вод, зараженных лихорадкой, и реяли в воздухе словно смертоносные испарения. Казалось, здесь издавна воцарилась Смерть. Ставни высокого узкого окна стучали о стену, скрипя на ржавых петлях — всюду господствовало уныние и разрушение. Но в воображении поэта все эти видимые явления перерождались в необычайные, далекие картины. Пред ним вставал уединенный и дикий уголок возле могил в Микенах, между второй вершиной горы Эвбеа и крылом неприступной крепости. Мирты густой зарослью пробивались среди куч мусора и гигантских развалин. Струи фонтана Персея, разлетаясь брызгами между скал, стекали в ложбину, подобную раковине, бежали оттуда и терялись в каменистом овраге. На краю фонтана, у корней кустов распростерлось тело Жертвы, вытянувшееся, неподвижное, спокойное… В мертвом безмолвии слышалось журчание струй и беспрерывный шелест ветерка на склонившихся миртах.
— Первое откровение моего нового создания, — сказал Стелио, — явилось мне в священном месте Микен под Львиными воротами в то время, как я перечитывал Ореста… Страна огня, страна жажды и бреда, родина Клитемнестры и Гидры… Земля, навеки опустошенная ужасом необычайно трагической судьбы, поразившей целый род. Думал ли ты когда-нибудь об этом исследователе-варваре, который, прожив долгое время в лавке за конторкой, решил предпринять изыскания в могилах Атридов среди микенских развалин, и которого однажды — шесть лет тому назад — посетило самое великое и самое странное видение, когда-либо являвшееся перед глазами смертных. Представлял ли ты себе этого толстяка Штильмана в момент открытия ослепительного сокровища, скрывавшегося в недрах опустошенной земли в течение веков, в течение тысячелетий? Думал ли ты когда-нибудь, что это сверхъестественное и страшное зрелище могло открыться другому: уму юному и пылкому — поэту, творцу, тебе, быть может, быть может, мне. И тогда — горячка, неистовство, безумие… Вообрази себе…
Он был возбужден и дрожал, охваченный своим вымыслом, как налетевшей бурей. В его пророческом взоре засиял отблеск сокровищ Могилы. Творческая сила приливала к его разуму, точно кровь к сердцу. Он был действующим лицом в своей драме, его голос и движения дышали возвышенной красотой и страстью, парили над могуществом речи, за пределами слов. И Даниэле внимал ему, трепеща перед этим внезапным величием, доказывающим истину своих откровений.
— Представь, представь себе: земля под твоими ногами гибельна, кажется, что из нее выделяются миазмы чудовищных испарений — жестокое проклятие, тяготевшее над Атридами, должно было непременно оставить отпечаток гибели на земле. Тебя коснулись чары. Мертвецы, которых ты ищешь и не можешь найти, оживают вокруг тебя, дышат вокруг тебя страшным дыханием, громадные и кровавые, какими они являлись в истории Ореста, безжалостно гонимые железом и огнем своей Судьбы. И вот вокруг тебя эта созданная тобой жизнь принимает образы и очертания действительности. И ты упорствуешь среди этой страны, томимой жаждой, у подножия этой бесплодной горы, в плену чар мертвого города ты роешь, роешь землю, окруженный ужасными призраками, встающими перед тобой из жгучих песков. При каждом ударе заступа ты содрогаешься до мозга костей, страшась появления настоящей фигуры одного из Атридов, нетронутого тлением, с ясными признаками совершенного насилия, бесчеловечного кровопролития. И вдруг — ты видишь золото… золото… трупы… масса золота и засыпанные им мертвецы… Они здесь — цари Атриды в окружающем мраке, распростертые на камнях. Чудо свершилось!
Читать дальше