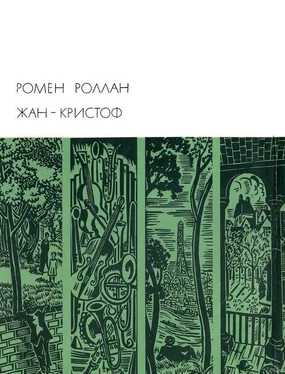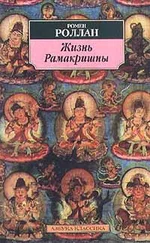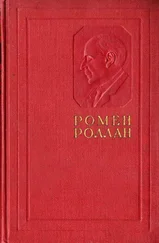— Я дождусь Мельхиора, — ответил старик.
— Ах нет, не надо. Пожалуйста, не ждите.
— Почему?
Она промолчала.
— Ты боишься? — сказал он. — Ты не хочешь, чтоб мы встретились?
— Ну да, — призналась она. — Зачем? Чему это поможет? Вы поссоритесь. Я не хочу. Лучше идите. Пожалуйста!
Старик вздохнул и поднялся со стула.
— Хорошо.
Он подошел к ней, коснулся ее лба жесткой бородой, спросил, не нужно ли ей что-нибудь подать, прикрутил огонь в лампе и направился к дверям, натыкаясь в полутьме на стулья. Но, выйдя на лестницу, он остановился. Он представил себе, как его сын, вдребезги пьяный, возвращается домой. И мысль о всех несчастиях, какие могут случиться, если не присмотреть за ним, заставляла Жан-Мишеля медлить на каждой ступеньке…
В постели, возле матери, ребенок снова беспокойно задвигался. Какая-то боль поднималась из глубины его существа. Он попытался бороться с ней — напряг все тельце, сжал кулачки, нахмурил брови. Боль усилилась, она медленно нарастала, неотвратимая, уверенная в своей власти. Ребенок не знал, что это такое и где предел этому. Казалось, страданью не будет конца. И ребенок залился надрывным плачем. Тотчас нежные руки матери приласкали его. Боль поутихла. Но он продолжал плакать, ибо чувствовал, что она еще где-то тут, возле него, в нем. Взрослый человек может бороться с болью, так как знает, по крайней мере, откуда она идет; в мыслях он связывает ее с определенным участком своего тела, который можно вылечить, можно в крайнем случае отрезать; он очерчивает границы своего страдания и отделяет его от себя. Ребенок лишен этого обманчивого утешения. Его первая встреча с болью намного страшнее и реальнее. Он не ощущает границ своего тела, и боль представляется ему такой же безграничной. Он чувствует, как она проникает ему в грудь, заползает в сердце, навечно водворяется в его теле, как хозяйка. И это так и есть: она больше его не покинет, пока не изгрызет до конца.
Мать прижимает его к себе, твердя бессмысленные нежные слова:
— Ну вот и все, ну вот и прошло, ну и не надо плакать, ангельчик ты мой, рыбочка ты моя золотая…
Но прерванный было плач возобновляется. Как будто этот жалкий, бесформенный и бессознательный комочек предчувствует, какая цепь страданий суждена ему в будущем. И ничем нельзя его утешить…
Вдруг запевают в ночи колокола. Это зазвонили в церкви святого Мартина. Медленные, задумчивые звуки. Во влажном от дождя воздухе они проходят приглушенной поступью, как шаги по мху. И младенец вдруг умолк, не докончив плача. Чудесная музыка вливается в него словно струя молока. Ночь озарилась, воздух стал мягким и теплым. Боль исчезла бесследно, сердце смеется от радости. И со вздохом облегчения он погружается в сон.
Все три колокола продолжали мерно звонить — завтра праздник. И Луиза, прислушиваясь к ним, думала о своих прошлых горестях и о том, кем станет со временем этот обожаемый крошка, спящий сейчас у ее груди. Бог весть сколько уже часов пролежала она тут одна! Как она устала, как все у нее болит. Руки ее горели, все тело тоже. Пуховик давил, как каменный; от темноты было тесно и душно. Но она не смела пошевельнуться. Она глядела на ребенка, и сумрак не мешал ей читать грядущее в его сморщенном, старообразном личике. Ее клонило в сон, смутные видения, спутники лихорадки, проплывали в ее мозгу. Вдруг ей почудилось, что Мельхиор открывает дверь, — она вздрогнула всем телом… Временами гул реки становился громче; он раскатывался в тишине, как рычание зверя. Раз или два прозвенело еще оконное стекло под пальцем дождя. Колокола пели все медленнее, все тише, наконец умолкли совсем. И Луиза уснула возле своего ребенка.
Все это время старый Жан-Мишель, дрожа от холода, стоял на страже перед домом; дождь забирался ему за воротник, борода намокла. Он ждал возвращения своего беспутного сына, ибо воображение рисовало ему картины одна страшнее другой: мало ли что может наделать пьяный человек! И хоть он сам не верил своим страхам, он не сомкнул бы глаз во всю ночь, если бы не удостоверился, что сын вернулся и все обошлось благополучно. Пение колоколов навеяло на него тоску, воскресив в памяти все погибшие надежды. Он думал о том, из-за чего ему приходится сейчас, ночью, стоять под дождем на улице. И он плакал от стыда.
Медленно катится огромный поток времени. Ночь и день наплывают и откатываются в непрерывном однообразном движении, словно прилив и отлив безбрежного моря. Проходят недели и месяцы — проходят и начинаются сызнова. И чреда дней ощущается как один-единственный день.
Читать дальше