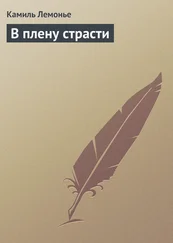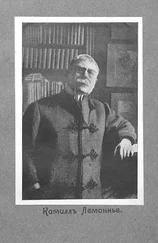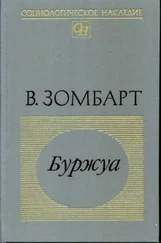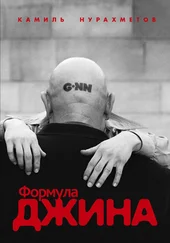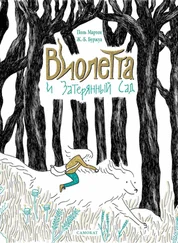Провиньян, которого братья обо всем предупредили, начал следить за женой. Однажды вечером он подстерег Сириль, когда она садилась в экипаж у дверей гостиницы; ее любовник, статный брюнет с сигарой во рту, помог ей сесть, а затем дал кучеру адрес их дома. Провиньян был потрясен неопровержимостью всего, что он увидел. Это действительно была его жена, он караулил ее уже около двух часов. Он подошел к ее спутнику, притронулся к его плечу и, когда тот обернулся, сразу же его узнал. Это был приятель Эдокса, человек, бывавший у них в доме.
— Мы будем драться.
— К вашим услугам.
Вернувшись домой, Провиньян поднялся к себе в комнату и стал писать. Это была история всей его жизни. Он с грустью оглядывался на свои детские годы, на годы юности: он видел, как бесплодны были все его попытки найти себя, как горько стареть тому, кто ухитрился прожить без молодости, и как безнадежна участь семей, которых коснулась печать вырождения. Писать он начал уже три месяца тому назад. «Это завещание моей бедной, больной души, повесть о моей скорби, о слабостях, которые я не могу преодолеть, — писал он в самом начале тетради. — Будет ли мне дано завершить ее? А если я и доведу ее до конца, то кто продиктует мне последние строки: настоящая смерть или другая — не менее страшная и столь же неумолимая, когда умирает энергия, умирает воля? А ведь именно это случается со мной каждый раз, когда я начинаю творить. Я вдруг почему-то жалею о силах, потраченных на то, чтобы воссоздать жизнь. Вслед за мыслями, которые мне хочется выразить в звуках, наступает полное истощение мозга. Эта бесполезность тоже одна из форм смерти!»
Он писал до самого утра, сидя у открытого окна, вдыхая аромат весенних листьев, доносившийся из соседнего леса.
«Через час мне исполнится тридцать один год, но эти тридцать лет, которые я прожил, тяжелым камнем висят у меня на шее — я не могу решиться прибавить к ним еще один год. Мне кажется, что в дороге я уже целые века, что я пришел сюда из далеких глубин прошлого и что весь путь свой совершил только для того, чтобы дожить до минуты, которая сейчас настанет и с которой окончится мое существование. Я не заслужил права жить, потому что не чувствовал себя созданным для жизни. Я ухожу из этой жизни, сожалея о той ошибке, которая заставила меня прожить все эти долгие годы, ухожу с надеждою раствориться целиком в небытии, ибо оно одно может дать утешение в моем горе».
Он подумал о Сириль, дописал еще одну, фразу, но тотчас же ее зачеркнул; потом закрыл тетрадь, остановил часы и бритвой перерезал себе артерию.
Один-единственный раз он почувствовал настоящий прилив энергии, которой ему всегда не хватало. И эта столь нужная для жизни решимость пришла, чтобы увести его из этой жизни.
Сириль была в отчаянии. Бледная как полотно, она сидела у гроба, вокруг которого горели свечи. Нервы ее были напряжены до боли, но оказалось, что сама скорбь, будучи для нее чувством неизведанным, приводит ее в какое-то упоение. Супруги Жан-Оноре, потрясенные случившейся катастрофой, простили дочь. Вильгельмина бросилась к гробу, обхватила его обеими руками. Потом она обняла дочь, и та приникла к ней, безудержно рыдая, еле держась на ногах. Ее судорожные всхлипывания были столь же искренни, как то благоговение, которое она теперь испытывала к памяти мужа. Да, она никогда как следует не понимала его утонченной души. Это ведь был большой ребенок, у него были свои тихие чудачества, и ей надо было приласкать его, как сестра милосердия умеет приласкать больного. Она заговорила о покаянии, поклялась, что пойдет в монастырь, но едва только Леона похоронили, как она стала думать о траурных нарядах, которые себе сошьет. Она завесила крепом весь дом, закрыла черным сукном его портреты. Тетрадь, которую Леон называл своим завещанием, привела ее в восторг. Она принялась ее читать, она часами сидела над его скорбными записями. Но потом она стала пропускать страницы, рукопись оказалась слишком для нее длинной, и она так и не дочитала ее до конца. Наслаждение, которое она искала в печали, иссякло.
Здесь, как и во всем другом, сказалось ее непостоянство, ее неспособность к сколько-нибудь длительным переживаниям. Долго проливать слезы и предаваться отчаянию она не могла, и в один прекрасный день ее легкомысленное сердце пресытилось смертью, которая какое-то время давала ей силы жить. Воспоминания потускнели, перестали ее волновать, весь ее траур стал своего рода кокетством, которое только развлекало ее после того, как окончилась комедия слез. Глядя на себя в зеркало, она находила, что хорошеет.
Читать дальше