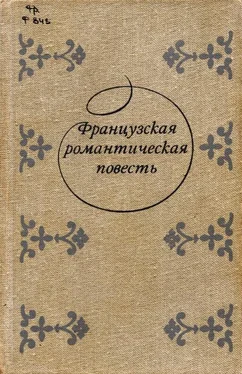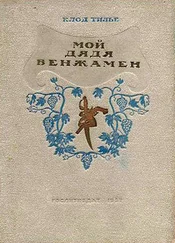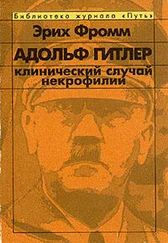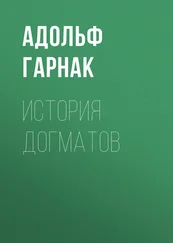Я провел ночь без сна. В моей душе уже не было места ни для расчетов, ни для планов; я совершенно искренне верил, что по-настоящему люблю. Теперь мною руководило не стремление к успеху — всем моим существом владела потребность видеть ту, кого я любил, наслаждаться ее присутствием. Часы пробили одиннадцать, я предстал перед Элленорой; она ждала меня. Она хотела было заговорить — я попросил ее выслушать меня. Я сел возле нее, так как едва держался на ногах, и, помимо своей воли запинаясь, начал: «Я пришел не для того, чтобы оспаривать приговор, вами вынесенный; не для того, чтобы отречься от признания, которое, быть может, оскорбило вас; я этого не мог бы, даже если бы хотел. Любовь, которую вы отвергаете, — несокрушима: уже то усилие, которое я сейчас делаю над собой, чтобы говорить с вами хоть сколько-нибудь спокойно, свидетельствует о силе чувства, которое вас оскорбляет. Но выслушать меня я просил вас не для того, чтобы рассказывать вам об этом чувстве; напротив, я хочу просить вас забыть о нем, принимать меня, как прежде, изгладить из вашей памяти мое минутное безумство, не карать меня за то, что вам известна тайна, которую я должен был похоронить в глубине души своей. Вы знаете мое положение, мой характер, который считают нелюдимым и странным, мое сердце, чуждое всем треволнениям света, одинокое среди людей — и все же страдающее от одиночества, на которое оно обречено. Ваша дружба была мне опорой, без этой дружбы я не могу жить. Видеть вас стало для меня привычкой; вы дали этой блаженной привычке зародиться и окрепнуть: чем я заслужил, что лишаюсь единственного утешения, скрашивавшего мне жизнь столь горестную и мрачную? Я несказанно несчастен, у меня уже нет мужества переносить столь длительное страдание; я ни на что не надеюсь, ни о чем не прошу, я хочу только одного — видеть вас; и мне необходимо видеть вас, если я должен жить» Элленора молчала. «Чего вы боитесь? — продолжал я. — Чего я требую? Того, что вы даруете всем равно душным. Свет ли страшит вас? Этот свет, поглощенный своей чванной суетой, не станет читать в сердце, подобном моему. Да и как мне не быть осторожным? Разве дело идет не о моей жизни? Элленора, внемлите моей мольбе; она даст вам некоторую усладу. Вы найдете своего рода прелесть в том, что столь нежно любимы, что будете видеть меня возле вас, видеть, что я занят одною вами, живу для вас одной, вам обязан всеми теми блаженными чувствованиями, которые еще способен испытать, присутствием вашим избавлен от страданий и отчаяния!»
Я долго продолжал в том же духе, опровергая все возражения, представляя все доводы, говорившие в мою пользу. Я был так смиренен, так безответен, я просил столь немногого и был бы так несчастлив, получив отказ!
Элленора была растрогана. Она поставила мне несколько условий. Она позволила мне бывать у нее, но лишь изредка, в большом обществе, с обязательством никогда не говорить ей о любви. Я обещал все, чего она хотела. Мы оба были довольны: я — тем, что вновь обрел благо, едва мною не утраченное; она — тем, что выказала великодушие, чувствительность и осторожность, одновременно.
На другой же день я воспользовался данным мне позволением, так же я поступал и в следующие дни. Элленора уже не вспоминала о необходимости принимать меня лишь изредка — вскоре ей представилось совершенно естественным видеть меня ежедневно. Десять лет преданности внушили графу П. безграничное доверие, он давал Элленоре полную свободу. Поскольку ему в свое время пришлось выдержать борьбу с общественным мнением, намеревавшимся исключить его возлюбленную из того круга, в котором сам он был призван вращаться, ему нравилось, что число ее знакомых увеличивалось: дом, полный гостей, утверждал в его глазах победу, одержанную им над общественным мнением.
Каждый раз, входя к Элленоре, я улавливал в ее взгляде выражение удовольствия. Когда разговор казался ей занимательным, ее взор невольно обращался ко мне. Если рассказывали что-нибудь интересное, она всегда подзывала меня послушать. Но она никогда не бывала одна: часто мне за целый вечер удавалось сказать ей наедине лишь несколько незначительных фраз, вдобавок часто прерываемых. Вскоре эти стеснения начали меня раздражать. Я стал мрачен, молчалив, неровен в обхождении, язвителен в речах своих. Мне трудно было сдерживать себя, когда кто-нибудь, отделясь от других гостей, разговаривал с Элленорой, и я резко прерывал эти беседы. Мне не было дела до того, что люди могли этим оскорбиться, и не всегда меня останавливала боязнь скомпрометировать Элленору. Она упрекала меня за эту перемену. «Чего вы хотите? — раздраженно отвечал я, — Вы, очевидно, думаете, что много для меня сделали; я вынужден сказать вам, что вы заблуждаетесь. Я совершенно не понимаю вашей новой манеры держать себя. Раньше вы жили замкнуто; вы избегали докучного светского общества; вы уклонялись от участия в разговорах, которые бесконечны именно потому, что никогда не должны были бы затеваться. Сейчас ваш дом открыт для всех. Можно подумать, что, упросив вас принимать меня, я удостоился этой милости не для себя одного, а для всей нашей вселенной. Признаюсь, видя вас прежде столь осторожной, я не ожидал, что вы окажетесь столь легкомысленной».
Читать дальше