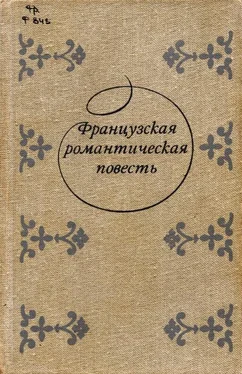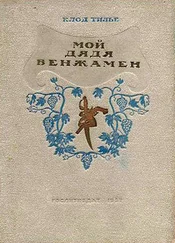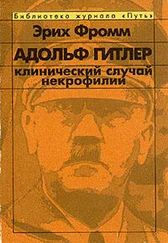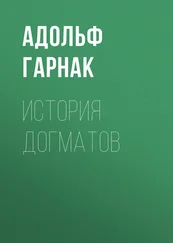Я возвращаю вам, сударь, рукопись, которую вы соблаговолили доверить мне. Благодарю вас за вашу любезность, хотя она пробудила во мне печальные воспоминания, изглаженные временем; я знал большинство лиц, изображенных в этой повести, ибо она совершенно правдива. Я часто встречал странного и несчастного Адольфа, одновременно и ее автора, и ее героя; я пытался своими советами отторгнуть пленительную Элленору, достойную участи более счастливой и сердца более верного, от злого гения, который, страдая не менее, чем она, имел над ней какую-то непостижимую власть и терзал ее своей слабостью. Увы! Когда я видел ее в последний раз, мне думалось, что я придал ей некоторую силу, вооружил ее разум против ее сердца. После весьма длительного отсутствия я возвратился в края, где я ее оставил, — и нашел там лишь могилу.
Вы должны были бы, сударь, напечатать эту повесть. Теперь она никого уже не может оскорбить и будет, на мой взгляд, небесполезна. Несчастье Элленоры доказывает, что самое страстное чувство бессильно против установленного порядка. Общество слишком могущественно, его влияние слишком многообразно, оно привносит слишком много горечи в ту любовь, которая им не признана; оно поощряет склонность к непостоянству и тревожную усталость, эти недуги души, подчас овладевающие ею при самой нежной близости. Люди равнодушные с изумительным рвением досаждают во имя нравственности и вредят из усердия к добродетели; можно сказать, что зрелище сердечной привязанности раздражает их, потому что они неспособны к ней; и, если только им удается найти удобный предлог, они с радостью набрасываются на нее и губят. Итак, горе женщине, уверовавшей в чувство, которое все вокруг единодушно пытаются отравить и против которого общество, если оно: не вынуждено уважать его как законное, вооружает мужчину всем, что есть дурного в его сердце, дабы угасить все, что в нем есть хорошего.
Пример Адольфа будет не менее поучителен, если вы добавите, что после того как он отвергнул существо, которое его любило, он остался таким же мятущимся, беспокойным, недовольным; что он не сделал никакого употребления из свободы, вновь обретенной ценою стольких горестей и слез, и что, будучи достоин всяческого порицания, он в то же время достоин и жалости.
Если вам, сударь, требуются доказательства — прочтите эти письма, которые расскажут вам о судьбе Адольфа; он предстанет перед вами в самых различных обстоятельствах, и всегда — жертвой смеси себялюбия и чувствительности, соединившихся в нем на горе ему самому и другим; предвидящим страдание, прежде чем его причинить, и в ужасе отступающим, когда оно содеяно; караемым за свои благие поступки еще более, чем за дурные, ибо первые проистекали из мгновенных порывов, а не из принципов; попеременно самый преданный и самый жестокосердный из людей, он, однако, всегда завершал жестокосердием то, что было начато преданностью, и поэтому оставил после себя лишь память о своих ошибках.
Да, сударь, я издам рукопись, которую вы мне вернули (не потому, чтобы я разделял ваше мнение о той пользе, которую она может принести; в этом мире каждый учится только на собственном горьком опыте, и все женщины, которые прочтут эту повесть, вообразят, что они встретили человека, лучшего, чем Адольф, или что они достойнее Элленоры); но я издам ее как довольно правдивую историю несчастий человеческого сердца. Если в ней содержится ценный урок — он обращен к мужчинам; эта история доказывает, что ум, предмет нашей гордости, не пригоден ни к тому, чтобы найти счастье, ни к тому, чтобы его дать; она доказывает, что сила характера, стойкость, верность, доброта — вот те дары, которые следует испрашивать у неба; но я не называю добротой ту мимолетную жалость, которая не в силах победить раздражение, не препятствует ему снова раскрыть раны, заживленные минутой раскаяния. Самая главная проблема в жизни — это страдание, которое причиняешь, и самая изощренная философия не может оправдать человека, истерзавшего сердце, которое его любило. Впрочем, я ненавижу самодовольные умы, воображающие, будто все, что можно объяснить, — следует простить; я ненавижу тщеславие, которое, повествуя о зле, им содеянном, занято лишь собой, живописуя себя, притязает на сочувствие и, несокрушимое, парит среди развалин, исследуя самое себя, вместо того чтобы раскаяться. Я ненавижу слабость, всегда обвиняющую других в своем собственном бессилии и не видящую, что зло не вокруг нее, а в ней самой. Я угадал бы, что наказание, постигшее Адольфа за его характер, было уготовано ему самим этим характером, что он не пошел ни по какому определенному пути, не подвизался с пользой ни на каком поприще; что он растратил свои способности, руководясь единственно своей прихотью, черпая силы единственно в своем озлоблении; повторяю — я угадал бы все это, даже если бы вы не сообщили мне о его участи новых подробностей, которыми, впрочем, не знаю еще, воспользуюсь ли. Обстоятельства не имеют большого значения, вся суть — в характере; тщетно порываем мы с предметами и существами внешнего мира, порвать сами с собой мы не можем. Мы меняем свое положение — но в каждое из них мы переносим те муки, от которых надеялись избавиться, а так как перемена места не исправляет человека, то оказывается, что мы только присовокупляем к сожалениям угрызения совести, а к страданиям — ошибки.
Читать дальше