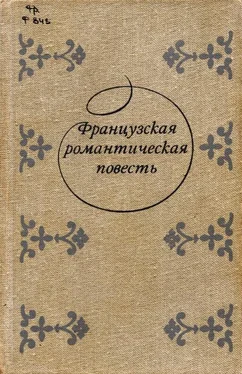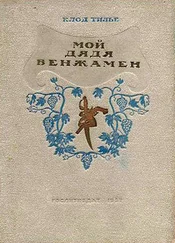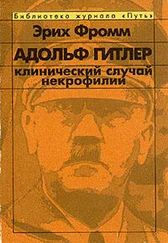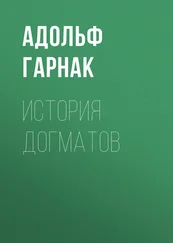Так протекла почти вся ночь. Я шел наугад; проходил по лесам, полям, деревням, где все было недвижно. Изредка я замечал тусклый свет, мерцавший в дальнем жилище и пробивавшийся сквозь мглу. «Там, — говорил я себе, — там, быть может, какой-нибудь несчастный терзается горем или борется со смертью, в непреложности которой повседневный опыт, по-видимому, все еще не убедил людей; это необъяснимая тайна, незыблемый рубеж, который не утешает и не умиротворяет нас, предмет постоянной беспечности и преходящего ужаса! И я так же, — продолжал я свою мысль, — я так же отдаю дань этой безрассудной непоследовательности! Я восстаю против жизни, словно этой жизни не суждено оборваться; я сею вокруг себя несчастье, чтобы отвоевать несколько жалких лет, которые время вскоре похитит у меня! О! Откажись от этих тщетных потуг! Радуйся, глядя, как бежит время, как уносятся дни твои, настигая друг друга; оставайся недвижен, будь равнодушным зрителем существования, уже наполовину истекшего; пусть завладеют им, пусть раздирают его в клочья — его ничем не продлить, так стоит ли препираться из-за него?»
Мысль о смерти всегда имела надо мной большую власть. Какие бы пылкие чувства меня ни волновали, этой мысли всегда было достаточно, чтобы тотчас меня успокоить; она и тут оказала на мою душу свое обычное действие — я стал думать об Элленоре с меньшей горечью. Все мое раздражение исчезло; впечатления минувшей безумной ночи оставили во мне лишь чувство беззлобное и почти спокойное: быть может, физическая усталость, овладевшая мною, способствовала этому умиротворению.
Забрезжил рассвет, я уже различал отдельные предметы.
Оказалось, что я нахожусь довольно далеко от поместья Элленоры. Я живо представил себе ее тревогу и ускорил шаг, насколько мне это позволяла усталость, чтобы поскорее вернуться к ней, как вдруг мне повстречался верховой, которого она послала разыскивать меня. Он сказал мне, что она со вчерашнего дня терзается мучительнейшими опасениями; что, побывав в Варшаве и объездив все окрестности, вернулась домой в неописуемом беспокойстве и что крестьяне ее деревень разосланы во все стороны на поиски. Этот рассказ сперва вызвал во мне неприязненное чувство. Я был раздосадован тем, что Элленора установила за мной тягостный надзор. Напрасно повторял я себе, что единственная тому причина — ее любовь ко мне; но разве эта любовь не была также причиной всех моих бед? Однако мне удалось побороть это чувство, в котором я упрекал себя. Я знал, что Элленора встревожена и страдает. Я сел на лошадь; я быстро покрыл расстояние, разделявшее нас. Она приняла меня с бурной радостью. Ее волнение растрогало меня. Наш разговор был краток, ибо она вскоре спохватилась, что мне нужен покой; я расстался с ней, не сказав, по крайней мере на этот раз, ничего такого, что могло бы опечалить ее сердце.
На утро я встал, преследуемый теми же мыслями, что волновали меня накануне. Мое волнение усилилось в последующие дни; Элленора тщетно пыталась узнать его причины, она забрасывала меня вопросами, на которые я отвечал неохотно и односложно; я давал отпор ее настойчивости, так как слишком хорошо знал, что моя откровенность причинит ей страдание и что это страдание принудит меня снова притвориться.
Тревожась и недоумевая, Элленора прибегла к помощи одной из своих приятельниц, чтобы разведать тайну, в сокрытии которой она меня обвиняла; страстно желая обмануть себя, она искала фактов там, где дело было в чувстве. Эта приятельница завела со мной разговор о моем причудливом нраве, об упорстве, с которым я отвергал всякую мысль о прочной связи, о моем необъяснимом стремлении к разрыву и одиночеству. Я долго слушал ее молча. До того времени я никому не говорил, что уже не люблю Элленору, — уста мои отказывались вымолвить это признание, казавшееся мне вероломством. Однако я захотел оправдать себя: я рассказал свою историю весьма сдержанно, всячески хваля Элленору, соглашаясь с тем, что вел себя непоследовательно, но виня в этом затруднительность нашего положения, и не позволил себе ни единым словом обмолвиться о том, что подлинное затрудненнее моей стороны заключается в отсутствии любви. Подруга Элленоры, слушавшая меня, была растрогана моим рассказом, — она усмотрела великодушие в том, что я называл слабостью, и несчастье — в том, что я именовал жестокосердием. Те самые объяснения, которые приводили в ярость необузданную Элленору, убеждали разум ее беспристрастной приятельницы. Мы так справедливы, когда к нашим суждениям не примешивается чувство! Кто бы вы ни были — никогда не вверяйте другому лицу попечение о своих сердечных делах; только сердце может быть защитником в этой тяжбе: оно одно знает, сколь глубоки его раны; всякий посредник становится судьей: он расследует, делает оговорки, видит равнодушие, допускает возможность его, признает его неизбежность — тем самым он оправдывает равнодушие, и таким образом оно, к великому своему изумлению, становится законным в собственных глазах. Упреки Элленоры давно уже убедили меня, что я виновен; женщина, воображавшая, что защищает ее, открыла мне, что я всего лишь несчастен. Это заставило меня чистосердечно признаться в своих чувствах: я подтвердил, что питаю к Элленоре преданность, сочувствие, жалость, но прибавил, что любовь совершенно непричастна к тем обязательствам, которые я наложил на себя. Эта истина, которую я до той поры таил в своем сердце и иногда лишь, в порыве волнения и гнева, изъяснял Элленоре, приобрела в моих глазах большее значение и силу именно потому, что хранителем ее стал другой человек. Великий, непоправимый шаг — внезапно обнажить перед глазами третьего лица тайники своего интимного чувства; свет, ворвавшийся в это святилище, обнажает и довершает разрушения, ранее окутанные мраком: так тело, заключенное в гробницу, нередко сохраняет свой прежний вид, покуда воздух, проникший извне, не коснется его и не обратит в прах.
Читать дальше