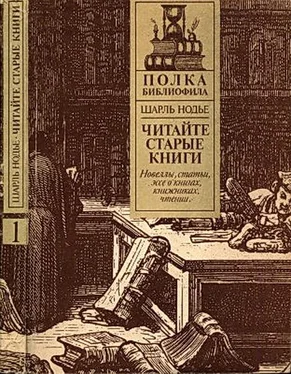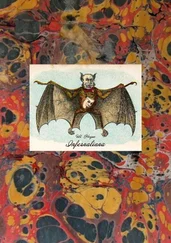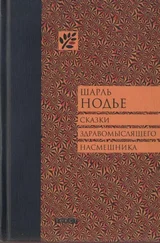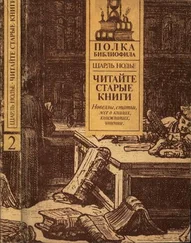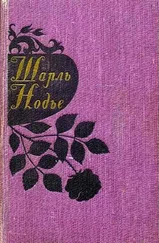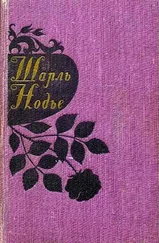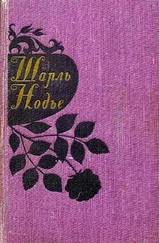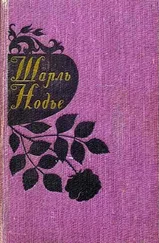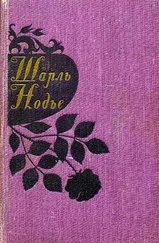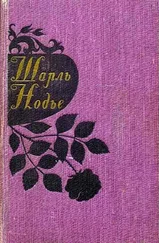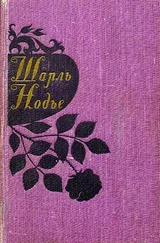Впрочем, эта книжица выполнит свою задачу, если останется после моей смерти скромным свидетельством моего глубочайшего уважения к твоему вкусу, моего восхищения твоими познаниями, моего почтения к твоему характеру и, главное, свидетельством нашей нерушимой дружбы.
Ш. Н. [38] По причинам, изложенным выше, в первом издании это посвящение было подписано инициалами Э. де Н. Имя господина Вейсса, разумеется, также не было названо.
Подражанием принято называть всякий перевод с мертвого языка, использованный в художественном произведении и не являющийся точной копией оригинала [39] Я говорю о художественном произведении, ибо в научных трудах дело, на мой взгляд, обстоит иначе, и вот почему: когда поэт, в особенности поэт драматический, заимствует остроумную или возвышенную идею и пересказывает ее своими словами, это нечто большее, чем цитата. Кроме того, изложение какой бы то ни было мысли изящным и мерным языком поэзии — само по себе уже достоинство, отличающее поэта от прозаика; наконец, этот вид заимствований освящен единодушным одобрением критиков. Совсем иное дело — перевести, не сославшись, иностранного или древнего автора, рассуждающего о материях практических и сделавшего в той или иной области важные открытия, либо нашедшего новое применение открытиям, сделанным его предшественниками, либо по-новому рассказавшего об этих чужих открытиях. Такой беззаконный перевод — настоящий плагиат, очевидное воровство, если только он не сопровождается открытым или подспудным признанием в содеянном, каковым, например, испокон веков считается сохранение заглавия переведенной книги.
.
Вергилий подражал Гомеру, Расин — трагическим поэтам Греции, Мольер — Плавту, Буало — Ювеналу и Горацию, и никому не приходило в голову упрекать их в этом. Другое дело — кражи у прозаиков средней руки: блестящие мысли, которыми можно поживиться, у них наперечет, но незначительность добычи едва ли не усугубляет тяжесть проступка. Монтень многое почерпнул у Сенеки и Плутарха, но он нимало этого не скрывает: ”Я хочу, — пишет он о критиках, — чтобы они в моем лице обрушивались на Сенеку” [40] Здесь и далее Монтень цитируется по изд.: Опыты. М., 1979.
{69} 69 С. 83. …чтобы они в моем лице обрушивались на Сенеку… — Монтень, Опыты, II, X.
. Такие прекрасные главы, как ”О том, что философствовать — это значит учиться умирать” (I, XX) и ”Обычай острова Кеи” (II, III), изобилуют заимствованиями из Сенеки. Монтень, вероятно, не сознавал, до чего резко выделяется короткая, образная, афористичная и, как правило, антитетическая фраза Сенеки на фоне его собственного стиля, пространного без вялости и подробного без растянутости. К подражаниям относятся также заимствования из иноземной словесности нового времени. Прекраснейшие сцены из трагедий Альфьери и Шекспира были переложены для нашей сцены, философы минувшего столетия обязаны большинством своих рассуждений англичанам — и никто не вправе усмотреть здесь плагиат. Однако я убежден, что человеку порядочному не пристало выдавать за свои те яркие образы, которые он почерпнул из произведений иноземной или древней словесности. Так что еще вопрос, благородно ли поступил великий Корнель, когда в своей трагедии ”Ираклий” слово в слово повторил прекрасную и трогательную мысль Кальдерона {70} 70 С. 84. …великий Корнель… слово в слово повторил… мысль Кальдерона… — ”Ираклий” Корнеля был поставлен в самом конце 1646 или самом начале 1647 г.; в 1724 г. новая постановка трагедии послужила поводом к публикации в журнале ”Меркюр” двух анонимных статей, где указывалось на поразительное сходство трагедий Корнеля и Кальдерона и плагиатором назывался Корнель; однако в предисловии к изданию ”Сочинений” Корнеля в 1738 г. литератор Ф. А. Жолли, ссылаясь на знатока литературы иезуита Турнемина, оспорил эту точку зрения, настаивая на том, что пьеса Кальдерона была издана после 1647 г. Точная дата первой постановки пьесы Кальдерона ”В этой жизни все правда, все ложь” неизвестна, опубликована же она была лишь в 1664 г., в третьем томе ”Сочинений” Кальдерона, причем приложенное к этому тому письмо издателя к драматургу дает основания считать данную публикацию первой. Слова ”прославленная комедия” традиционно характеризовали в Испании все знаменитые пьесы. Вольтер, переведший пьесу Кальдерона и включивший ее в свои ”Комментарии к Корнелю” (1764), озаглавил свой перевод ”Ираклий, прославленная комедия”. Как и Нодье, Вольтер отводил от Кальдерона упрек в плагиате, хотя оба, вероятно, ошибались.
:
Читать дальше