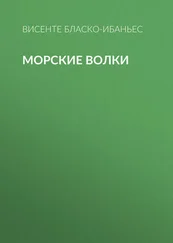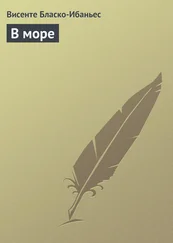Хосефина вяло кивала головой и отвечала, что, да, она счастлива; даже встала на цыпочки и благодарно поцеловала мужа в губы, которые говорили ей нежности сквозь заросли бороды. Но лицо ее было, как и всегда, хмурым, движения слабыми, и вся она была похожа на увядший цветок; казалось, не существует такой радости, которая могла бы оживить ее, развеять печаль.
Прошло несколько дней жизни в новом доме, впечатление новизны развеялось, и с Хосефиной стало происходить то же, что и раньше.
Не раз, заходя в столовую, Реновалес видел: она сидит и плачет, закрыв лицо руками. На его обеспокоенные расспросы Хосефина не отвечала, упорно молчала, а когда он пытался обнять ее и приласкать, как маленькую, женщина впадала в неистовство, словно ей нанесли смертельную обиду.
— Оставь меня в покое! — кричала она, глядя на мужа свирепыми глазами. — Не прикасайся ко мне... Уходи.
Иной раз он долго искал ее по всему дому, тщетно расспрашивая о ней у Милито. Но девочка, привыкшая к материнским припадкам, с эгоизмом здорового ребенка не замечала отцовой тревоги, продолжая спокойно играть бесчисленными куклами.
— Не знаю, где она, папа. Может, плачет где-то наверху, — в лучшем случае отвечала дочь.
Мариано поднимался на верхний этаж и действительно находил жену или в спальне, или в гардеробной среди разбросанной одежды, или еще в каком-нибудь уголке. Она сидела на полу, опершись подбородком на руки и уставившись в стену, будто наблюдала что-то таинственное, доступное только ее взору... В такие минуты она не плакала; сидела с выражением ужаса в сухих глазах, и напрасно муж пытался отвлечь ее разговорами. Она не шевелилась, холодная и бесчувственная к его ласкам, словно он был ей чужим, словно их разделяла пропасть равнодушия.
— Я хочу умереть, — говорила она серьезно и сосредоточенно. — Я лишняя на этом свете, хочу отдохнуть.
Это могильное смирение вскоре переходило во вспышки безумной ярости. Реновалес никогда не мог понять, почему между ними взрывались ссоры. Какое-нибудь его случайное слово, выражение лица или даже молчание могли вызвать бурю. В голосе Хосефины вдруг пробивались злобные нотки, слова ее вонзались в мужа, как острые ножи. Она укоряла его и за то, что он делает, и за то, чего не делает, мол, и привычки у него плохие, и рисует он совсем не то, что надо... Обругав мужа, она начинала проклинать других людей, весь мир, особенно тех высокопоставленных лиц, кто составлял клиентуру художника и платил ему за портреты бешеные деньги. Он может гордиться, что рисует людей: те отвратительные сеньоры — почти все мерзавцы и воры. Ее мать всю жизнь вращалась в этом обществе и рассказала ей немало всяких историй. А женщин он и сам хорошо знает: одни учились вместе с ней в школе, другие когда-то были ее подругами. Они и замуж вышли лишь для того, чтобы выставлять на посмешище своих мужей; каждая имеет за спиной какое-то приключение; каждая из них — более шлюха, чем те, которые вечерам ловят клиентов вдоль тротуаров. А этот дом с его пышным фасадом, разрисованный лаврами и золотыми буквами, — обычный бордель! Однажды она придет в мастерскую и повыгоняет всех этих шлюх на улицу, пусть он рисуют их портреты в другом месте.
— Побойся бога, Хосефина! — бормотал потрясенный Реновалес. — Не говори такого; выбрось из головы свои ужасные химеры. Даже не верится, что ты можешь такое молоть. Не хватало еще дочери это слышать.
Хосефина, согнав злость на муже, принималась рыдать, и Реновалес должен был бросать все, вставать из-за стола и вести ее к кровати. Она падала на постель и раз за разом выкрикивала, что хочет умереть.
Такая жизнь была для художника еще невыносимее из-за его супружеской верности, потому что до сих пор он — может, по привычке — любил жену и не собирался ей изменять.
Вечерами к нему в мастерскую приходило несколько друзей, среди них и знаменитый Котонер, который давно уже перенес свою резиденцию в Мадрид. Сидя в сумерках, вливающихся снаружи сквозь огромное витражное окно, они нередко чувствовали потребность в дружеской откровенности, и в таких случаях Реновалес всегда произносил одно и то же:
— Неженатым я погуливал, как и все; но после женитьбы не знал другой женщины, кроме Хосефины. Говорю это без ханжества.
Он распрямлялся во весь исполинский рост и трепал, затем приглаживал бороду, гордясь своей супружеской верностью, как другие гордятся успехами в любви.
Когда при нем говорили о красивых женщин или любовались портретами каких-то чужеземных красавиц, маэстро в восторге восклицал:
Читать дальше