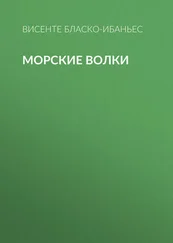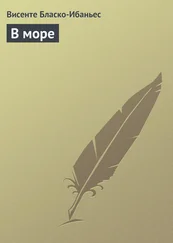Увидев, сколько высокородного дворянства собралось на венчание его сына в домашнюю часовню маркиза де Тарфе, старик разволновался и не мог сдержать слез.
— Теперь я могу умереть! Теперь могу и умереть!
Снова и снова повторял он эти грустные слова, будто и не замечая хихиканья слуг; пожалуй, неожиданное счастье, которое пришло к нему после тяжелой трудовой жизни, показалось кузнецу предвестником близкой смерти.
Молодожены отправились в путешествие в тот же день. Сеньор Антон впервые поцеловал невестку в лоб, оросив ее личико слезами, и вернулся в свою деревню, утверждая, что желает умереть, ибо ему уже не для чего было жить на свете.
По дороге в Рим Реновалес и его жена останавливались в нескольких городах Лазурного побережья, в Пизе и Флоренции. Те дни, связанные с воспоминаниями о первой близости, были для них приятными, но показались несказанно серыми, когда они приехали в Рим и поселились в своем домике. Только в Риме начался для них настоящий медовый месяц, у собственного очага, где их одиночество не нарушали гостиничные слуги и куда не мог проникнуть ни один нескромный взгляд.
Хосефина, привыкшая к нищете, к тайном ограничении во всем, к убогости жилища на третьем этаже, где они с матерью будто прятались от всех, приберегая остатки былой роскоши для выхода в свет, была в восторге от изысканно обставленной, уютной квартирки на Виа Маргутта. Друг, которого Мариано попросил подготовить здесь гнездышко к их приезду, уже упомянутый Пепе Котонер, художник, который брал в руки кисть лишь изредка и весь свой художественный пыл вкладывал в расточаемые восторги талантом Реновалеса, очень хорошо выполнил поручение.
Зайдя в спальню, Хосефина радостно захлопала в ладошки. Она с детским восхищением смотрела на венецианскую мебель с великолепными инкрустациями на перламутре и черном дереве; эту по-княжески роскошную обстановку Мариано приобрел в рассрочку.
О, первая их ночь в Риме! Как запомнилась она Мариано!.. Растянувшись на монументальной венецианской кровати, Хосефина наслаждалась отдыхом после утомительного пути, потягиваясь всем телом, прежде чем закрыться тонкой простыней, с непринужденностью женщины, которой нечего больше скрывать. Розовые пальцы ее маленьких, пухлых ножек тихонько шевелились, словно призывая Реновалеса. Мариано стоял у кровати и, наморщив лоб, серьезным взглядом смотрел на жену. В нем бурлило желание, которого он не мог до конца понять. Ему хотелось смотреть на Хосефину, любоваться ею; после нескольких ночей в отелях, где за тонкой перегородкой звучали чужие голоса, он до сих пор ее не знал.
Это была не прихоть влюбленного, а страстное желание художника, потребность художника. Его глаза стремились любоваться ее красотой.
Она сопротивлялась, заливаясь краской стыда, и возмущалась этим стремлением, ранящим ее сокровенные чувства.
— Не дури, Марианито. Ложись уже и не неси чепухи.
Но он настаивал, все сильнее распаляясь. Она должна отбросить свои мещанские предрассудки. Искусство не терпит такой чрезмерной стыдливости. Человеческая красота существует для того, чтобы показывать ее во всем лучезарном величии, а не прятать, словно униженную и оклеветанную.
Он не собирается рисовать свою жену, не смеет просить от нее такой великой милости. Но должен видеть ее, хочет любоваться ею — без вульгарных желаний, в благоговейном восторге.
Нежно и осторожно, чтобы ничем не ранить, он взял ее хрупкие длани в свои ручищи и потянул к себе, а она со смехом упиралась, вырывалась и закрывала ладошками грудь. «Сумасшедший, глупый, не щекочи меня... Ой, больно». Но постепенно, побежденная его упрямством, чувствуя в душе тайную женскую гордость, что ее красоте так поклоняются, Хосефина поддалась и позволила раздеть себя, как малого ребенка; она тихонько вскрикивала, будто он делал ей ужасно больно, но уже не сопротивлялась.
Освобожденное от кружев тело засияло перламутровой белизной. Хосефина стыдливо зажмурилась, а пьяные от восторга глаза художника впились в ее ладные округлости, розовеющие на белом покрывале.
Черты лица Хосефины были не бог весть какой красоты. Но тело! Он непременно преодолеет суеверную застенчивость жены и однажды нарисует ее!..
Словно устав от этого невольного позирования, хрупкая женщина согнула руки в локтях, подложила их под голову и, не открывая глаз, грациозно изогнулась, выпятив волшебные белые бугорки.
В порыве восторга Реновалес упал перед кроватью на колени и стал горячо целовать это тело, однако не почувствовал никакого чувственного возбуждения.
Читать дальше