Гэм решительно отвернулась и пошла прочь. Постепенно происшедшее отдалялось, и вдруг ее охватил прилив радо-сти — она жива, все еще жива! Но картины казни не отпускали, витали в мозгу. И неожиданно она спросила Сежура:
— Что такое с этим… — Она помедлила. — С палачом?
Сежур не ответил, и она, взволнованная внезапным порывом, спросила еще раз:
— Кто он, этот палач?
— Его мать — мексиканка, отец — негр. Сам он говорит по-английски, по-испански и по-китайски и живет здесь уже пять лет. У этого человека необычная история. Я знаю его, потому что уже шестой раз в этом городе, а с ним познакомился во второй приезд. Сегодня вечером вы сможете поговорить с ним…
Гэм быстро подняла глаза. С удивлением и страстным участием. Но возражать не стала.
Вечер был душный, над головой шелестели опахала. Мягкими взмахами медленно перемешивали теплую кашу воздуха. Возле парома причалил учанский пароход, в комнату донесся шум голосов: яйцеторговцы с низовий Янцзы обсуждали дневную выручку.
— А вы считайте, что здесь никого нет, Бен Минкетон, — сказал Сежур, начиная разговор. — Я знаю, иногда вы так делаете, и это для вас легче, если подумать о мнении посторонних. Здесь только люди, которые вас поймут…
Некоторое время царила тишина. Потом Минкетон облокотился на колени, устремил взгляд куда-то в угол и заговорил ровным, безучастным голосом:
— Это история давняя и почти забытая, Сежур. Я плавал тогда матросом на голландском пароходе, в колониях, и мы как раз стали на якорь в Сингапуре. Вечером я пошел с одной немкой к ней на квартиру. Я долго не видел женщин и, как юнга, влюбился в ее светлую кожу. Немка была уступчивая, покорная. А мне этого было мало, я отчаянно жаждал владеть ею еще больше, еще полнее. Но стоило мне отпустить ее, мы вновь становились двумя людьми, двумя разными людьми. Это доводило меня до белого каления: как же так, мы должны быть вместе, должны стать одним существом… Я хотел слиться с нею, войти в ее кровь и плоть — и не мог. И, совершенно обезумев, я начал душить ее. У меня и в мыслях ничего такого не было, я увидел свои руки, только когда она выгнулась дугой и распахнула глаза. Тогда я понял, что вот-вот задушу ее, но не мог разжать пальцы. Трепещущее, судорожно дергающееся тело привело меня в такое возбуждение, что я не заметил, как она перестала сопротивляться. Опомнился я, только когда она была уже мертва. Пришлось бежать, и я сумел скрыться. Но память о случившемся не оставляла меня. Никогда я не испытывал таких сильных эмоций. Я знал, что сделаю это снова. Но я не хотел убивать невинных людей. Может, и не жалко потасканной шлюхи, она ведь была старая, просто я сразу не заметил… и все же так я не хотел. В конце концов после многих переездов я очутился здесь и получил это место, мой предшественник как раз скончался. Должность честная, оплачивается государством. Все хорошо, все в порядке. Я теперь спокоен, потому что имею то, что мне нужно…
Он кивнул, глядя на свои руки. Потом чуть более оживленно сказал:
— Пираты всегда равнодушны к смерти, если это китайцы. Но иногда попадаются полурусские и метисы. Эти вначале идут за мной спокойно. Но когда первый сражен, второй начинает отбиваться и, как тигр, в страхе рвется из оков. Тогда нужно его усмирить, обломать ему бока, чтобы угомонился. Такие минуты — это больше чем убийство. Под руками бьется жизнь, хочет убежать, а я держу ее за горло, чувствую, и сила на моей стороне, я властвую этой жизнью и не дам ей уйти.
Он говорил оживленно и взволнованно. Потом усмехнулся и добавил:
— Двадцать седьмого июля их было ни много ни мало сорок один человек, вся команда пиратской джонки. Голова капитана куснула меня за палец, когда я совал ее в кувшин. Он страшно кричал, а когда его связали, заблевал все вокруг.
— Вы говорили, — обронила в темноте Гэм, — что та женщина была вам небезразлична…
— Да, — ответил Минкетон, — иначе так не получилось бы.
В комнате стало тихо. Вечер стоял между тремя людьми, каждый из которых думал о своем. За дверью послышался шум. Шаркающие шаги, потом легкий топот босых ног. Сежур вышел в коридор узнать, в чем дело.
Гэм поднялась. На душе было как-то странно. Услышанное клокотало внутри, словно ручей раскаленной лавы. Перед глазами вдруг замелькали полузабытые образы — тот давний час у смертного одра Пуришкова. И она опять в смятении почувствовала: какие-то немыслимо древние, тайные узы связывали смерть, это непостижимое разрушение, это абсолютное отрицание жизни, с абсолютным утверждением жизни, с эросом. Смерть была окружена и обвеяна эросом, оба они окружали, охватывали друг друга, образуя кольцо, и не могли существовать раздельно — как древний китайский знак инь-ян, они дополняли друг друга и были одно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


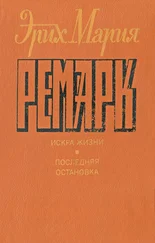
![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](/books/337777/erih-remark-iskra-zhizni-perevod-r-ejvadisa-thumb.webp)
