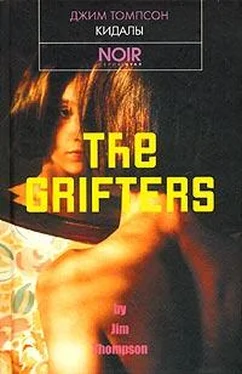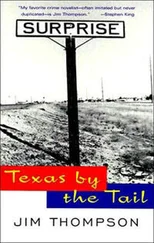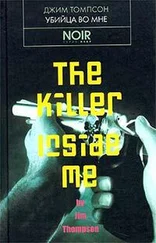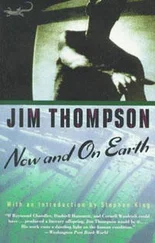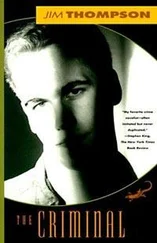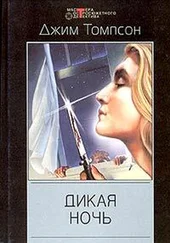— А что в ней такого важного? Ладно, милая, иди сюда!
Счастливо рассмеявшись, она легла рядом и с веселым удивлением обняла его.
— Ну и ну, — сказала она. А потом, не сопротивляясь, пробормотала с радостью в голосе: — Но может, нам подождать, Рой? Я не стану больше нравиться тебе.
— Ты не можешь нравиться мне еще больше. — Он нетерпеливо пытался расстегнуть ее белую форму. — Как ты только снимаешь эту чертову штуковину...
— Но есть еще кое-что, о чем тебе надо знать, Рой. Ты имеешь право. Я не могу иметь детей, Рой. Никогда.
Он замер, но лишь на секунду. У нее была сложная манера выражать свои мысли, выворачивая их задом наперед и неправильно ставя ударения. Что ж, у нее не могло быть детей, и все это к лучшему, но все равно нужно было ее успокоить.
— А кому это важно, — хрипло, со страстью прошептал он. — Это нормально, это очень хорошо, что ты не девственница. Теперь давай не будем больше разговаривать, ради бога, и...
— Да, конечно, Рой! — Она с доверчивой готовностью прижалась к нему, сама направляя его жадные руки. — И я тоже хочу. И это твое право...
С нее слетела форма, потом нижнее белье. Извечная стыдливость, ее страхи, ее прошлое. В полумраке занавешенной комнаты она рождалась заново, и прошлого больше не было, только будущее.
Темно-красное клеймо все еще не исчезло с ее левой руки, но теперь это был просто шрам, полученный когда-то в детстве; время все сгладило, притупило воспоминания. Шрам больше не имел значения. Как не имело значения то, что за этим стояло, — стерилизация, потеря девственности, — потому что он сказал, что это не важно. И поэтому теперь шрам — несмываемая метка из концлагеря Дахау — ничего не означал.
Она вышла из ванной, уже стесняясь и надев нижнее белье; все еще залитая румянцем, теплая и светящаяся. Не забывая о своих обязанностях, она укутала его простыней.
— Я должна о тебе заботиться, — сказала она. — Теперь больше, чем всегда, ты стал для меня очень важен.
Рой с ленивой улыбкой смотрел на нее. Она милая, хорошая женщина, подумал он. И пожалуй, самая честная из всех, кого он знал. Если бы она не сказала ему, что она не девственница...
— Как ты. Рой? Тебе нигде не больно?
— Никогда не чувствовал себя лучше, — засмеялся он. — А чувствую себя я обычно неплохо.
— Это хорошо. Было бы ужасно, если бы я причинила тебе боль.
Он повторил, что чувствует себя великолепно; она именно то, что ему сейчас нужно. Она серьезно ответила, что и он как раз то, что ей нужно, и Рой засмеялся, подмигнув ей:
— Я тебе верю, милая. Давно у тебя было или лучше мне не спрашивать?
— Давно? — Она слегка помрачнела, в замешательстве склонив голову. — Ну, — сказала она, — это было...
— Не важно, — быстро перебил он. — Забудь.
— Это было там. — Она протянула руку с номером. — Там же меня стерилизовали.
— Там? — нахмурился он. — Я не... где это «там»? С застывшей улыбкой на лице она стала рассеянно объяснять; глаза смотрели на него и дальше, сквозь него, куда-то за пределы этой комнаты. Создавалось впечатление, что она говорила о каких-то абстракциях, словно объясняла унылую и ничего не значащую теорему, едва ли достойную того, чтобы ее положения произносились вслух. Она словно читала сказку, в которой было столько кошмаров, что они накладывались один на другой; тема и сюжет не менялись, застыв неподвижно, ужас наслаивался на ужас, пока не проваливались вниз, увлекая слушателя за собой.
— Да, да, так и было. — Она улыбнулась ему, словно любимому ребенку. — Я была маленькая, лет семь или восемь. Они хотели определить наиболее ранний возраст, когда женщина может зачать, поэтому и делали это. Такое может быть очень рано, например даже в пять лет. Но они искали средний возраст. С моей мамой и бабушкой было иначе; им хотелось знать, какой старой может быть женщина. Моя бабушка умерла вскоре после начала эксперимента, а мать...
Роя тошнило. Ему хотелось встряхнуть ее, ударить. Взглянув на себя со стороны, так же как и она сейчас смотрела на себя со стороны, он почувствовал ярость и негодование. Вообще-то в мыслях он недалеко ушел от широко распространенной философии настоящего времени. Той, о которой везде говорят и пишут. Ханжеская скорбь и раскаяние в грехах, радостное отпущение их грешникам, неодобрительные и косые взгляды на тех, кто вновь об этом вспоминает. В конце концов, эти бедняги, бывшие друзья, стали теперь нашими союзниками, и отныне показывать по телевизору газовые печи было дурным тоном. Нельзя же осуждать весь народ. И что с того, если когда-то они это действительно делали? Разве стоит повторять ту же досадную ошибку? В конце концов, они тоже ненавидели коммунистов и, как и мы, хотели истреблять этих вонючих крыс по всему миру. И в конце концов, люди, оказавшиеся жертвами, сами накликали беду на свою голову.
Читать дальше