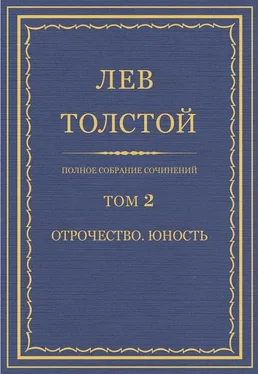— «Совсѣмъ нѣтъ; это такъ только говорятъ», отвѣчалъ я: «а она, напротивъ, была очень добрая и веселая. Коли-бы ты видѣла, какой былъ балъ въ ея имянины».
— «А маменька говоритъ, что она ужасно строгая, [76] В подлиннике: строгаетъ,
и все меня стращаетъ Графиней. Да, впрочемъ, Богъ знаетъ, будемъ ли...»
— «Что-о?» спросилъ я съ безпокойствомъ.
— «Нѣтъ, тебѣ нельзя говорить секреты — ты раскажешь».
— «Ну скажи пожалуйста, я, ей Богу, никому не скажу; вѣрно про бабушку?»
— «Нѣтъ, не про бабушку; да я не скажу, ужъ какъ ни проси».
— «Ну, пожалуйста, вѣрно про насъ, а?» сказалъ я, взявъ ее за руку, чтобы обратить на себя ея вниманіе.
— «Ни за что», отвѣчала она, освобождая свою руку. Но я видѣлъ, что ей хочется разсказать свой секреть — только надо было не настаивать.
— «Ну, хорошо. Про что это мы говорили?» продолжалъ я, постукивая ногою о кузовъ: «да, какой балъ былъ у бабушки. Вотъ жалко, что васъ не было. Большіе были и танцовали, а съ какой дѣвочкой мы тамъ познакомились!» и я сталъ со всѣмъ увлеченіемъ любви, которая, несмотря на всѣ треволненія, еще яркимъ пламенемъ горѣла въ моей юной душѣ, описывать подробности моего съ ней знакомства и ея необыкновенную миловидность, умъ и другія удивительныя качества, про которыхъ я, сказать по правдѣ, ничего не могъ знать. Мнѣ очень не нравилось, что Катинька слушала меня очень равнодушно и даже, кажется, вовсе не слушала. Я и впослѣдствіи замѣчалъ въ себѣ нѣсколько разъ эту замашку: женщинамъ, которыя мнѣ нравились, безъ всякой видимой цѣли разсказывать про мою любовь къ другимъ. Это бывало всегда моимъ любимымъ разговоромъ, и я до сихъ поръ не знаю, какихъ ожидалъ я отъ этаго послѣдствій, и что находилъ въ томъ любезнаго.
Итакъ, Катенька какъ будто не слушала меня. Я кончилъ свои признанія и замолчалъ. Мнѣ опять стало неловко. Видно было, что между нами стало мало общаго. Я болталъ ногой около колеса съ намѣреніемъ доказать свою храбрость.
— «Полно шалить, прими ногу», сказала Катинька наставническимъ тономъ. Я принялъ ногу, но ея замѣчаніе окончательно обидѣло меня.
Со времени нашего отъѣзда въ первый разъ изъ деревни я замѣчалъ огромную перемѣну въ Катенькѣ. Она значительно выросла, развилась и похорошѣла. Ей было 13 лѣтъ, но она казалась дѣвушкой лѣтъ 15; особенно же въ разговорѣ и манерахъ она далеко перегнала наивную Любочку. Она была въ томъ переходномъ состояніи, во время котораго дѣвочки бываютъ какъ-то особенно неровны въ пріемахъ и застѣнчивы. Впрочемъ, я такъ привыкъ съ дѣтскихъ лѣтъ считать ее за сестру, что все она была для меня той же Катенькой, которую я помнилъ еще покрытую веснушками съ рыжеватенькой головкой, обстриженной подъ гребенку, и я мало обращалъ на произшедшія въ ней физическія перемѣны; мнѣ только не нравилось то, что она морально перемѣнилась въ отношеніи ко всѣмъ намъ: она какъ-то отшатнулась отъ всѣхъ насъ и стала больше оказывать довѣренности и любви своей матери. При ней уже нельзя было трунить надъ Мими: она сердилась за это. Любочка не смѣла шалить при ней изъ опасенія, чтобы она не разсказала про то своей матери, и часто я самъ слышалъ, какъ Мими, запершись въ комнатѣ, о чемъ-то шепталась съ своей дочерью. —
— «Катинька! . . . . . . . сказалъ я, съ рѣшительностью поворачиваясь къ ней. «Скажи по правдѣ, отчего ты съ нѣкоторыхъ поръ стала какая-то странная?»
— «Неужели я странная?» сказала Катенька съ одушевленіемъ, которое ясно доказывало, что мое замѣчаніе интересовало ее: «я совсѣмъ не странная».
— «Нѣтъ, ты совсѣмъ не такая, какой была прежде», продолжалъ я. «Прежде видно было, что ты насъ любишь и считаешь, какъ родными, такъ же, какъ и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, разговариваешь только съ Мими, точно ты не хочешь совсѣмъ насъ знать». Говоря это, я начиналъ уже ощущать легкое щикотаніе въ носу, всегда предшествующее слезамъ, которыя всегда навертывались мнѣ на глаза, когда я высказывалъ давно сдержанную, задушевную мысль.
— «Да вѣдь нельзя же всегда оставаться одинаковыми», сказала Катенька.
— «Отчего же?»
— «Надобно же когда-нибудь перемѣниться. Вѣдь не все же намъ жить вмѣстѣ».
— «Отчего?» продолжалъ я допрашивать.
Катенька имѣла привычку доказывать все какою-то фаталистическою необходимостью. «Надо же, молъ, и дурамъ быть», сказала она мнѣ однажды, когда я побранился съ ней.
— «Да затѣмъ, что маменька могла жить у вашей маменьки, своимъ другомъ; но, Богъ знаетъ, сойдутся ли они съ Графиней, которая, говорятъ, такая сердитая. Кромѣ того, все-таки когда нибудь да мы разойдемся: вы богатые — у васъ есть Петровское, а мы бѣдные — у маменьки ничего нѣтъ».
Читать дальше