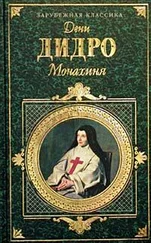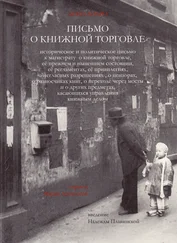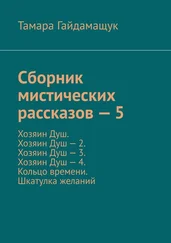Я. Как нельзя лучше!
Он. Мне кажется, неплохо; звучит примерно так же, как и у других…
И он уже согнулся, как музыкант, садящийся за фортепьяно.
Я. Прошу вас, пощадите и себя и меня.
Он. Нет, нет; раз вы в моих руках, вы меня послушаете. Я вовсе не хочу, чтобы меня хвалили неизвестно за что. Вы теперь с большей уверенностью будете одобрять мою игру, и это даст мне несколько новых учеников.
Я. Я так редко бываю где-нибудь, и вы только понапрасну утомите себя.
Он. Я никогда не утомляюсь.
Видя, что бесполезно проявлять сострадание к этому человеку, который после сонаты на скрипке уже был весь в поту, я решил не мешать ему. Вот он уже сидит за фортепьяно, согнув колени, закинув голову к потолку, где он, казалось, видит размеченную партитуру, напевает, берет вступительные аккорды, исполняет какую-то вещь Альберти или Галуппи {39} — не скажу точно, чью именно. Голос его порхал как ветер, а пальцы летали по клавишам, то оставляя верхние ноты ради басовых, то обрывая аккомпанемент и возвращаясь к верхам. На лице его одни чувства сменялись другими: оно выражало то нежность, то гнев, то удовольствие, то горе; по нему чувствовались все piano, все forte, и я уверен, что человек более искушенный, чем я, мог бы узнать и самую пьесу по движениям исполнителя, по характеру его игры, по выражению его лица и по некоторым обрывкам мелодии, порой вырывавшимся из его уст. Но что всего было забавнее, так это то, что временами он сбивался, начинал снова, как будто сфальшивил перед тем, и досадовал, что пальцы не слушаются его.
— Вот, — сказал он, выпрямляясь и вытирая капли пота, которые текли по его щекам, — вы видите, что и мы умеем ввести тритон, увеличенную квинту и что сцепления доминант нам тоже знакомы. Все эти энгармонические пассажи, о которых так трубит милый дядюшка, тоже не бог весть что; мы с ними тоже справляемся.
Я. Вы очень старались, чтобы показать мне, какой вы искусный музыкант; а я поверил бы вам и так.
Он. Искусный? О нет! Но что до самого ремесла, то я его более или менее знаю, и даже больше чем достаточно; разве нужно у нас знать то, чему учишь?
Я. Не более, чем знать то, чему учишься.
Он. Верно сказано, черт возьми, весьма верно! Но, господин философ, скажите прямо, положа руку на сердце, — было время, когда вы не были так богаты, как сейчас?
Я. Я и сейчас не слишком-то богат.
Он. Но летом в Люксембургский сад вы больше не пошли бы… Помните?
Я. Оставим это — я все помню.
Он. В сером плисовом сюртуке…
Я. Ну да, да.
Он. …ободранном с одного бока, с оборванной манжетой, да еще в черных шерстяных чулках, заштопанных сзади белыми нитками.
Я. Ну да, да, говорите, что угодно.
Он. Что вы делали тогда в аллее Вздохов?
Я. Являл жалкое зрелище.
Он. А выйдя оттуда, брели по мостовым?
Я. Так точно.
Он. Давали уроки математики?
Я. Ничего не смысля в ней. Не к этому ли вы и вели всю речь?
Он. Вот именно.
Я. Я учился, уча других, и вырастил несколько хороших учеников.
Он. Возможно, но музыка не то, что алгебра или геометрия. Теперь, когда вы стали важным барином…
Я. Не таким уж важным.
Он. …когда в мошне у вас водятся деньги…
Я. Весьма немного.
Он. …вы берете учителя к вашей дочке.
Я. Еще нет; ее воспитанием ведает мать: ведь надо сохранить мир в семье.
Он. Мир в семье? Черт возьми, да чтобы сохранить его, нужно быть самому или слугой, или господином, а господином-то и надо быть… У меня была жена {40} … царство ей небесное; но когда ей порой случалось надерзить мне, я бушевал, метал громы, возглашал, как господь бог: «Да будет свет!» — и свет появлялся. Зато целых четыре года у нас дома были тишь да гладь. Сколько лет вашему ребенку?
Я. Это к делу не относится.
Он. Сколько лет вашему ребенку?
Я. Да ну, на кой вам это черт! Оставим в покое мою дочь и ее возраст и вернемся к ее будущим учителям.
Он. Ей-богу, не знаю никого упрямее философов. Но все же нельзя ли покорнейше просить его светлость господина философа хоть приблизительно указать возраст его дочери?
Я. Предположим, что ей восемь лет {41} .
Он. Восемь лет? Да уже четыре года, как ей надо бы держать пальцы на клавишах.
Я. А я, может быть, вовсе и не думаю о том, чтобы ввести в план ее воспитания предмет, берущий столько времени и приносящий так мало пользы.
Он. Так чему же, позвольте спросить, вы будете ее обучать?
Я. Если мне удастся, обучу правильно рассуждать — искусство столь редкое среди мужчин и еще более редкое среди женщин.
Читать дальше