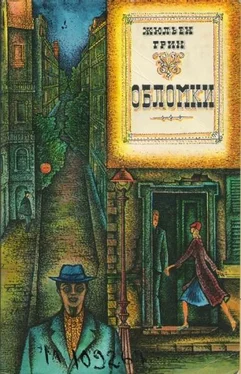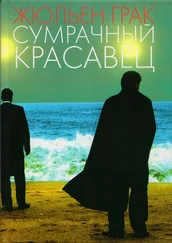Скорее твердой, чем спокойной рукой она помешала в камине угли, разбила кочергой толстые поленья, охваченные пламенем, раскидала золу по всему очагу и проделывала все это машинально, но старательно, как человек, поглощенный своими мыслями. От этой возни с огнем на душе стало легче. Разгребая золу, она совсем забыла о всех тревогах, словно бы то спокойствие, которое она умышленно вкладывала в эти свои движения, нашло таинственный путь прямо к мозгу, и она погрузилась в столь глубокое раздумье, что ее не отвлек даже звон стенных часов, пробивших два.
Мысленным взором она видела Анриетту. Сестра представлялась ей в саржевом голубом платьице, которое она носила, когда была невестой, в узеньком платьице, отделанном шелковым сутажем, с вышитым воротничком и манжетами. «Ты похожа в этом платье на принарядившуюся учительницу», — хмурилась Элиана. Анриетта лишь плечами пожимала или смеялась. Ей-то было все равно. Это «все равно» относилось не только к заношенному платьицу, но в одинаковой мере к мнению Филиппа, а также и к помолвке, и к предстоящей свадьбе, «ко всему, ко всему», как выражалась она сама, по-детски разводя руками. При одном только имени Филиппа у Элианы пересыхало в горле. Если брак состоится, она будет видеть Филиппа каждый день, будет сидеть за обедом и ужинать за одним с ним столом и, быть может, даже перехватит его влюбленный взгляд, адресованный не ей, — чего только не добьешься настойчивостью. А для этого надо, чтобы Анриетта не утратила ни грана власти над женихом, ибо даже самая сильная страсть имеет свои минуты прозрения; какая-нибудь мелочь, прическа не к лицу могут порой свести на нет длительную и бренную работу соблазнения. В конце концов Элиана возненавидела это нищенское платье, как личного своего врага; в один прекрасный день она залила его чернилами, к великому огорчению сестры, и, затронув свои сбережения, приодела Анриетту. Накупила ей духов, отдала переделать свои рубины, полученные в наследство еще от бабки. Но этого оказалось мало. Тогда она продала часть акций и кое-какие собственные драгоценности, чтобы достать нужную сумму. Словом, все шло, как она задумала. Как ни был влюблен Филипп, его явно коробили пометы нищеты. И его, как всякого настоящего богача, пугала бедность. Элиана догадалась об этом по натянутому, даже сконфуженному лицу Филиппа в тот самый день, когда Анриетта, сидевшая напротив него, положила ногу на ногу, показав дыру на подметке. Сейчас, отодвинутая в прошлое, сценка эта казалась комичной, но тогда несчастная Элиана от стыда чуть не лишилась сознания. И впрямь, к чему лезть из кожи вон ради этой дурехи, которая никак не соберется отнести туфли сапожнику? При этом воспоминании Элиана даже застонала и, покачав головой, с остервенением ударила кочергой по поду камина. На память ей пришло, как они с сестрой бегали по магазинам, как она — старшая — старалась отыскать что-нибудь понаряднее, чтобы в глазах Филиппа эта равнодушная девчонка, зевающая от усталости, казалась привлекательнее. Однако денег всегда не хватало. Купленные накануне ткани приходилось назавтра отсылать обратно в магазин, а самой, задыхаясь от ярости, торговаться в соседних лавчонках. Вот тут-то и начался каждодневный изнурительный труд: платье, скопированное с витрины шикарного магазина, становилось объектом мучительных усилий и бесчисленных примерок; особенно памятен был один воланчик, который довел сестер чуть ли не до истерики, причем одна ругалась с полным ртом булавок, а другая заливалась горючими слезами. Наконец Элиана не выдержала. Как-то вечером она дала Анриетте пощечину, в сущности, без всякой видимой причины, возможно, за ту самую дыру на подметке, которую никак не могла простить сестре, а возможно, потому что… но она запрещала себе додумывать такие мысли: она хотела этого брака, подобно тому как хочет человек катастрофы, из ненависти к себе самой, от отчаяния; и, не отрывая глаз от иголки, сновавшей по отвратительной дешевке, которой приходилось довольствоваться, она воображала себе некую идеальную Анриетту; тревожно бившаяся мысль показывала ей сестру в том странном свете, в котором возникают перед нами видения; при такой гладкой белоснежной коже любая ткань казалась еще воздушнее, еще нежнее, еще роскошнее; жемчужное колье выгодно подчеркивало округлость шейки, а золотые звенья браслета-цепочки свободно скользили к запястью… Филипп нежно брал ее за руку, потом грубоватым жестом привлекал к себе; после сдержанного гула голосов, взрывов хохота, нависало тяжелое молчание, раздавался пугающий шепот, и Элиане чудилось, что она слышит его в этом доводящем до галлюцинаций одиночестве рассвета, когда она просыпалась словно от удара, бледная, дрожащая, как будто в комнату ворвались грабители. Однако всего этого еще не было, свадьба будет через месяц, через три недели, через десять дней. А до тех пор многое еще может случиться. Зачем же тогда она шьет это платье? Но рука споро летала над тканью, будто боялась получить иной приказ: бросить шитье, порвать этот шелковый воланчик, искромсать на куски это платье. На постели Филиппа два тела тянутся друг к другу, сплетаются в объятиях: зыбь желания размыкает их руки и тут же бросает друг к другу, они цепляются друг за друга, как потерпевшие кораблекрушение в свой смертный час; Элиане казалось, что она сейчас лишится сознания, шитье выпадало из рук, и она прижималась мокрой от слез щекой к спинке стула. Значит, этого она хотела. Замужество Анриетты, ее счастье, ее будущее, все эти слова прикрывали собой нечто таинственное, но реально существующее, плохо ею представляемое. Горло перехватывало, она поднимала платье, валявшееся на полу у ее ног, и снова бралась за волан, но день клонился к закату, и она уже ничего не видела. Она плакала. Слезы злобы и зависти струились по щекам вдоль носа, огибали ноздри, щекотно-горькими каплями падали на губы. Но проходила минута, другая — и Элиана, успокоившись и почти смирившись, бралась за шитье, мурлыча себе что-то под нос. До чего же грустно было смотреть на это окошко с белыми занавесками, которые к тому же приходилось подымать, а не раздергивать! В полутемной столовой света не хватало даже на то, чтобы разглядеть стежки. Каждые пять минут Элиана переставляла стул, надеясь воспользоваться последними лучами заходящего солнца, но мысли неуклонно возвращались к тем смутным видениям, что рождает сумрак. И она снова срывалась, и воображение, твердо удерживаемое в узде, выходило из повиновения. Перед ней стоял Филипп, один, без Анриетты.
Читать дальше