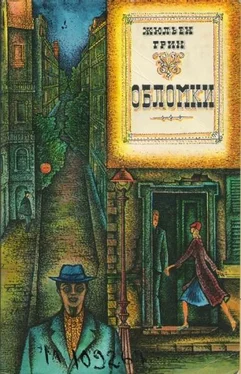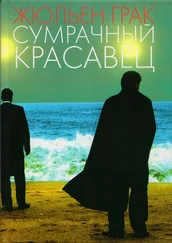— Может быть, сам еще не знаю.
— Кухарка говорит, что в буфетной нет больше вина. Хочешь, я велю Эрнестине спуститься в погреб?
Филипп неопределенно покачал головой с такой миной, будто поглощавшие его мысли не позволяют ему ответить.
Оставшись наедине с Робером, Филипп искоса наблюдал за ним, расхаживая вдоль книжных шкафов со стеклянными дверцами. В присутствии сына он почему-то вел себя не так, как обычно. Он сам себе казался плохим актером, который, как ни старается, не может войти в роль отца. Случалось, правда, что, охваченный жалостью к этому ребенку, которого никто, по-видимому, не любит, он подходил к нему и с чувством неловкости целовал в щеку. Но сегодня он не знал, о чем говорить с сыном. Мальчик стоял у окна, упершись лбом в стекло, и смотрел на улицу, на прохожих с задумчиво-скучливым видом. Раза два-три Филипп тоже подходил к нему и бросал притворно любопытный взгляд в окно. Уголком глаза он видел, как розовая от волнения свежая мордашка поднималась к нему.
Вдруг Филипп отошел от окна и опустился перед камином и кресло. В глубине души он не любил сына, отданного пансионером в коллеж в часе езды от Парижа, но ему хотелось ласково с ним поболтать, провести ладонью по густым волосам с непокорно торчащими вихрами. Он охотно обратился бы к сынишке с нежными словами, если бы, конечно, такие пришли ему на ум, лишь бы исчезло беспокойное выражение этих синих глаз, где застыла тоска по школьному двору. Он представил себе, как Робер, разбуженный раньше обычного, несется из темного дортуара в холодную умывалку, потом бежит на вокзал вместе с не помнящими себя от радости товарищами, потом является к отцу, где его встречают равнодушные взгляды. Но сердце Филиппа давно изленилось и не способно было печалиться чужой печалью, да и приятно было думать, что одно лишь недовольное движение твоих бровей может испортить радость человеческому существу. Робер делал вид, что смотрит в окно, однако он жадно ловил каждый жест отца в надежде, что к тому вернется доброе расположение духа. Филипп узнавал себя, ребенка, в этих невинных, порядком уже забытых хитростях. Сильно ли похож на него сын? Физически не очень, хотя у него то же сложение, те же грубые лодыжки, те же широкие кисти рук, — наследство трех поколений предков, пахавших землю. А нравственно? Он окликнул Робера, усадил его рядом. Нет, эти смеющиеся глаза видели совсем иной мир, не его, Филиппа, мир. Никогда Филипп, даже мальчиком, не смотрел так прямо, так беззаботно, в таком полном неведении зла; с самых ранних лет он подозревал всех и вся в скрытом притворстве. Исподтишка наблюдал он за этой толстощекой мордашкой, желая обнаружить в линии бровей или в изгибе губ особое, пусть даже неуловимое, выражение, нечто скрытое, что сблизило бы его с этим чужаком..
Вдруг он услышал в коридоре шаги свояченицы и бросился к двери.
— Скажи Эрнестине, что я сам спущусь в погреб, пусть она принесет ключ и подсвечник.
***
Они замешкались в углу темного дворика, посреди которого старый черный платан простирал свои корявые ветви. Мальчик сжимал в красной ручонке медный подсвечник и следил взглядом за отцом. Филипп поднял глаза — по тускло-бесцветному небу ветер гнал клочья дыма, подымавшегося из труб. В воздухе пахло чуть сыростью тумана, чуть гарью, и, как всегда, при каждом вздохе эта смесь запахов приводила ему на память детство. К этому городскому, к этому зимнему аромату примешивалось звяканье колокольчика — по соседней улице проходил точильщик, предлагая сноп услуги. Негромкое это звяканье тоже навеяло на него воспоминания, и, прежде чем открыть дверь подвала, он переждал, чтобы точильщик прошел мимо.
Они спустились по лестнице. Робер упирался ладонью в холодную шершавую стену и шел, вытянув шею. Над его головой плясал огонек свечи. Лестница круто сворачивала вбок и уходила куда-то в потемки, и их не мог пробить слабенький дрожащий огонек.
— Иди, да иди же, — повторял Филипп на каждой ступеньке.
Он тяжело дышал от нетерпения и постукивал ключом по стене. Когда они спустились, мальчик поставил на пол свечу и плетеную металлическую корзинку, в которой носили бутылки. Перед ними шли под углом два узких коридора, откуда в лицо веяло ледяным мраком. Красное копьецо пламени клонилось из стороны в сторону, свет падал на утрамбованную землю. Сюда еще доходили городские шумы, но, смягченные расстоянием, они казались неразличимо одинаковыми. Только когда с грохотом проносилась машина, чудилось, будто ворчат сама земля.
Читать дальше