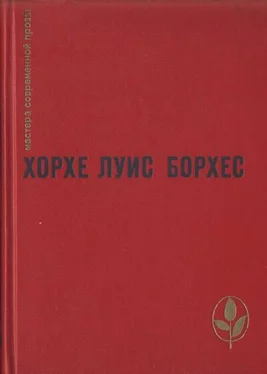— Оставь ты его, он не мужчина, он всех нас обманывал.
Франсиско Реаль замер, помешкал, а потом обнял ее — ровно как навеки — и велел музыкантам играть милонгу и танго, а всем остальным — танцевать. Милонга что пламя степного пожара охватила барак, от одного конца до другого. Реаль танцевал старательно, но без всякого пыла — ведь ее он уже получил. Когда они оказались у двери, он крикнул:
— Шире круг, веселее, сеньоры, она пляшет только со мной!
Сказал, и они вышли, щека к щеке, словно бы опьянев от танго, словно бы танго их одурманило.
Меня кинуло в жар от стыда. Я сделал пару кругов с какой-то девчонкой и бросил ее. Наплел, что мне душно невмоготу, и стал пробираться вдоль стенки к выходу. Хороша эта ночка, да для кого? На углу улицы стоял пустой фургон с двумя гитарами-сиротами на козлах. Взгрустнулось мне при виде их, заброшенных, будто и сами мы ни к черту не годимся. И злость взяла при мысли, что нас считают подонками. Схватил я гвоздику, заложенную за ухо, швырнул ее в лужу и смотрел на нее с минуту, чтобы ни о чем не думать. Мне хотелось бы оказаться уже в завтрашнем дне, хотелось выбраться из этой ночи. Тут кто-то задел меня локтем, а мне от этого даже легче стало. То был Росендо; он один уходил из поселка.
— Всегда под ноги лезешь, мерзавец, — ругнул он меня мимоходом; не знаю, душу себе облегчить захотел или просто так. Он направился в самую темень, к реке Мальдонадо. Больше я его никогда не видел.
Я стоял и смотрел на то, что было всей моей жизнью, — на небо, огромное, дальше некуда; на речку, бьющуюся там, внизу, в одиночку; на спящую лошадь, на твердую землю улицы и на печки для обжига глины — и подумалось мне: видно, и я из той сорной травы, что разрослась на свалке меж старых костей вместе с «жабьим цветком». Да и что могло вырасти в этой грязи, кроме нас, пустозвонов, робеющих перед сильным. Горлодеры и забияки, всего-то. И тут же подумал: нет, чем больше мордуют наших, тем мужественнее надо быть. Мы — грязь? Так пусть кружит милонга и дурманит спиртное, а ветер несет запах жимолости. Напрасно была эта ночь хороша. Звезд наверху насеяно — не сосчитать, одни над другими; голова шла кругом. Я старался утешить себя, говоря, что происшедшее никакого касательства ко мне не имеет, но трусливость Росендо и нестерпимая смелость чужака слишком сильно задели меня за живое. Даже лучшую женщину смог на ночь с собой увести долговязый. На эту ночь и на многие, а может быть, и на веки вечные, потому как Луханера — дело серьезное. Бог знает куда они делись. Далеко уйти не могли. Видно, милуются в ближайшем овраге.
Когда я наконец возвратился, все танцевали как ни в чем не бывало.
Проскользнув незаметно в барак, я смешался с толпой. Потом увидал, что многие наши исчезли, а пришельцы танцуют танго рядом с теми, кто еще оставался. Никто никого не трогал и не толкал, но все были настороже, хотя и соблюдали приличия. Музыка словно дремала, а женщины лениво и нехотя двигались в танго с чужими.
Я ожидал событий, но не таких, какие случились.
Вдруг слышим, снаружи рыдает женщина, а потом голос, который мы уже знали, но очень спокойный, даже слишком спокойный, будто какой-то потусторонний, ей говорит:
— Входи, входи, дочка, — а в ответ снова рыдание. Тогда голос стал злым: — Отворяй, говорю тебе, подлая девка, отворяй, сука!
Тут дверь боязливо открылась и вошла Луханера, одна. Вошла спотыкаясь, будто кто-то ее подгонял.
— Ее подгоняет чья-то душа, — сказал Англичанин.
— Нет, дружище, покойник, — ответил Резатель. Лицо у него было словно у пьяного. Он вошел, и мы расступились, как раньше; сделал, качаясь, три шага — высокий и будто слепой — и бревном повалился на землю. Кто-то из его приятелей положил его на спину, а под голову сунул скаток из шарфа и при этом измазался кровью. Тут мы увидали, что у Резателя рана в груди; кровь запеклась, и пунцовый разрез почернел, чего я вначале и не заметил, так как его прикрывал темный шарф. Для перевязки одна из женщин принесла крепкую канью и жженые тряпки. Человек не в силах был говорить. Луханера, опустив руки, уставилась на умирающего сама не своя. Все вопрошали друг друга глазами и ответа не находили, и тогда она наконец сказала: мол, как они вышли с Резателем, так сразу отправились в поле, а тут словно с неба свалился какой-то парень, и полез как безумный в драку, и ножом нанес ему эту рану, и что она готова поклясться, что не знает, кто это был, но это был не Росендо. Да кто ей поверил?
Мужчина у наших ног умирал. Я подумал: нет, не дрогнула рука у того, кто проткнул ему грудь. Но мужчина был стойким. Как только он грохнулся оземь, Хулия заварила мате [18], и мате пошел по кругу, и, когда наконец мне достался глоток, человек еще жил. «Лицо мне закройте», — сказал он тихо, потому как силы его уже истощились. Осталась одна только гордость, и не мог он стерпеть такого, чтобы люди глазели на предсмертные судороги. Ему на лицо положили черную шляпу с высокой тульей. Он умер под шляпой, без стона. Когда грудь перестала вздыматься, люди осмелились открыть лицо. Выражение было усталое, как у всех мертвецов. Он был один из самых храбрых мужчин, какие были тогда, от Батерии на Севере до самого Юга. Как только я убедился, что он мертвый и бессловесный, я перестал его ненавидеть.
Читать дальше